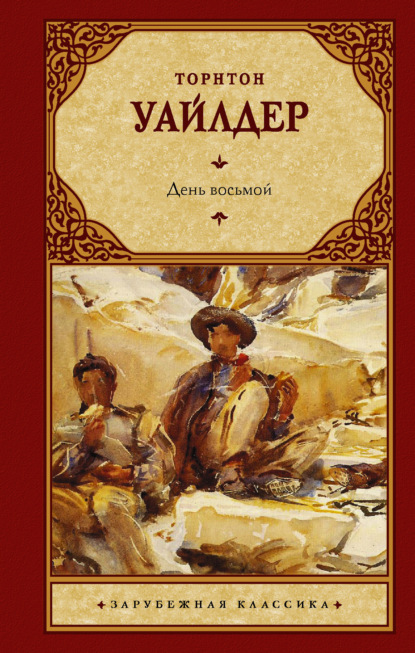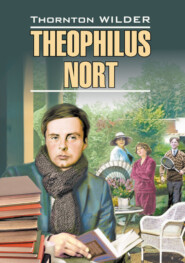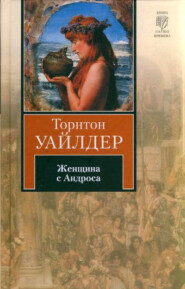По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
День восьмой
Автор
Жанр
Год написания книги
1967
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Неужели вы ничего не слышали о мадам Моджеске? Она польских кровей, как и я, пела в «Марии Стюарт»! Эти люди – звезды! Вы хоть понимаете? Как звезды на небе! Если бы на небе не светили звезды, мы превратились бы в стадо баранов, гнули шеи к земле. Ваша дочь – как и я, как мне кажется, – будущая звезда. Таких, как мы, одновременно наберется не больше дюжины-другой среди всех живущих на земле. Они избранные! Они несут на своих плечах огромный груз, живут не так, как другие, да и с какой стати должно быть иначе? Их не волнует, кто женат, а кто нет, для них важно другое: добиться совершенства! Вы уморите здесь свою дочь до смерти, так что радуйтесь, что я тут объявился и готов взять над ней шефство.
Беата встала.
– Итак, вы пообещали мне съехать в половине восьмого утра. Я постучу вам в дверь без пятнадцати семь.
Взяв лампу в руки, она жестом предложила ему следовать за ней, и перед тем, как разойтись по своим комнатам, он с обескураживающей прямотой тихо сказал ей:
– Ваша дочь талант, миссис Эшли. Вы когда-нибудь слышали о более высоких материях, чем жареный цыпленок? Вы всего лишь содержательница пансиона в городке Коултаун, штат Иллинойс. Подумайте над этим. Чем быстрее ваша дочь выберется отсюда и поменяет фамилию, тем лучше.
Миссис Эшли даже бровью не повела.
У себя под дверью Ладислас Малколм нашел записку. Мисс Лили Сколастика Эшли желает ему доброго пути, но всерьез думает переехать в Чикаго. Если пожелает, он может написать ей на адрес мисс Ольги Дубковой и изложить свои предложения.
Первые несколько дней Лили никак не выказывала своих сожалений по поводу его отъезда, но заметно изменилась. Исчезли последние остатки мечтательности. Лили стала относиться к матери еще внимательнее, но держалась на расстоянии, а на все просьбы спеть на вечерах отвечала отказом. Беата больше не заговаривала о визите в банк и даже не упоминала о спрятанном обручальном кольце мистера Малколма.
Через три недели Лили уехала из Коултауна на ночном поезде – том самом, который вез ее отца на казнь под конвоем. В руках у нее был саквояж – тот самый, с которым Беата Келлерман тайком покинула отчий дом: тоже в июне, только двадцать один год назад.
Осень в Коултауне великолепна! Утомленные бесцельной свободой долгого лета, дети возвращаются в школу, и от тишины, установившейся в домах, их матери начинают испытывать легкое беспокойство, а от ничем не занятых часов, даже возникают головные боли. Разноцветная листва, в которую одеваются деревья, напоминает роскошные языческие наряды. Дни становятся короче, и жителям шахтерского городка долгие месяцы придется шить при искусственном освещении. Предстоящие осенние праздники вызывали ужас. Джордж Лансинг покинул город, но осталась его команда «последних могикан», которая либо выроет столбы у ворот мэра, либо открутит стрелки у городских часов. Непримиримые дамы из христианского общества борьбы за трезвость готовы были костьми лечь, чтобы в день выборов закрыли все питейные заведения. Философское настроение овладевало даже самым трезвомыслящим домовладельцем, когда он стоял над кучей дымившейся палой листвы. С первым снегом у большинства горожан словно раскрылись глаза: белизна придавала Коултауну необычайное очарование.
София и Констанс в школу так и не вернулись. Если кое-кто из взрослых скупым кивком все-таки здоровался с Софией на улицах, то ее сверстники оставались непримиримыми. Мальчишки норовили поставить подножку, а девчонки не уставали картинно изображать, как София, по примеру своего отца, в них стреляет. Они обступали ее тесным кружком, а потом, будто смертельно испуганные, разбегались в разные стороны. Родители, как известно, для многих детей являются примером.
С отъездом Лили работы прибавилось. Основная тяжесть легла на Констанс. Ежедневные обязанности труднее всего дались девочке осенью 1904 года и последовавшей весной, когда ей исполнилось двенадцать. Февраль и март оказались самыми безрадостными месяцами, и Констанс давала волю слезам и раздражению. Ей хотелось ходить в школу, в церковь, гулять по городу. София передала ей заботу об утках, мать, вспомнив свое детство в Хобокене, штат Нью-Джерси, попыталась отвлечь ее – нужно было ухаживать за виноградной лозой и готовить «весеннее вино», – но Констанс не интересовали ни животные, ни растения. Ей хотелось общения, и не только с членами семьи и постояльцами пансиона. Наконец, в июле ей на помощь пришла мисс Дубкова.
– Беата, мне кажется, вы поступаете по-настоящему мудро, оберегая Констанс от грубости городских детей, но я чувствую, что ей нужно больше двигаться. Когда я была в ее возрасте – еще в России, – мы с сестрой целыми днями пропадали в лесу: собирали грибы и ягоды. Если девочка пообещает, что не будет ходить в центр города, почему бы не позволить ей раза три-четыре в неделю гулять по окрестностям?
Это было чудесно! Теперь через день Констанс вставала на час раньше и начинала все драить: мыть и чистить, – а в одиннадцать ускользала из города по тропинке за станцией. Констанс ни разу не обмолвилась матери, что за три недели у нее появилось множество друзей на окрестных фермах, которые были рады ее появлению. Она то сидела у кого-то на кухне и слушала чьи-то рассказы, то помогала соседкам развешивать белье и опять слушала, то сидела возле дедушек и бабушек, прикованных к постелям. Ей нравилось наблюдать за лицами собеседников, выражением глаз. Она никогда не испытывала неловкости. Могла свободно присесть к косарям, когда они в перерыве обедали под деревьями, добралась даже до цыганского табора. В «Вязах» мало-помалу прекратились истерики и взрывы раздражения.
Никто из Эшли никогда не жаловался на здоровье, но однажды утром – это было в октябре – София встала с постели, и как была, в одной ночной сорочке, надела шляпу, а потом вышла из дому и двинулась в сторону станции. Ее нашли без сознания на главной улице, принесли домой и уложили в постель, а Порки бросился за доктором Джиллисом. Миссис Эшли, пока шел осмотр, ждала у лестницы. Она, казалось, была убита горем больше, чем в тот день, когда в суде зачитали приговор ее мужу. К ней снова вернулась хрипота.
– Что с ней? Что это может быть, доктор?
– Мисс Эшли, мне это очень не нравится, но Софи есть Софи: она просто вымоталась. Я предвидел что-то в таком духе.
– Понятно.
– Сегодня после обеда я отвезу ее на ферму к Беллам. Все они любят Софи, а пациентов я отправлял к ним и раньше. Не думаю, что они потребуют плату.
Миссис Эшли оперлась рукой о столп, чтобы не упасть.
– После обеда?
– Сейчас она отказывается куда-либо ехать: даже рассердилась на меня. Не представляет, кто будет ходить за покупками в город. Ей кажется, что дом рухнет, если она уедет. Я дал ей снотворное: пусть отдохнет, – а в помощь вам пришлю миссис Хаузерман.
– Я сама буду ходить за покупками.
– София обрадуется, когда узнает об этом. Я сумел ее убедить, что отец наверняка тоже отправил бы ее в отпуск на пару недель к Беллам. В первую неделю ее не нужно навещать никому: ни вам, ни Конни, – но вот писать, причем каждый день, я бы очень рекомендовал: сообщать, что в «Вязах» все идет как надо и что все по ней скучают. Надеюсь, мы вовремя перехватили это.
– Перехватили? Перехватили что, доктор?
– В первые десять минут она меня не узнавала. Старые ломовые лошади тоже ведь не выдерживают, миссис Эшли. Они не могут вечно возить щебень. Я бы попросил Роджера вернуться хоть ненадолго: предложите ему, когда будете писать. Беллы полюбили Софи с того раза, когда она пришла к ним и попросила свиного жира, чтобы приготовить мыло. Они и Роджера любят: ведь он работал у них каждое лето. Итак, в три часа я приду.
– Спасибо, доктор.
Покидая дом, доктор Джиллис сказал себе: «Одни люди смотрят вперед, другие все время оглядываются назад».
Беата Эшли прошла в комнату, уставленную горшками с комнатными растениями, и без сил опустилась на диван, а когда – через какое-то время – все же попыталась встать, ей это не удалось. Она ругала и ругала себя, но на следующее утро все же оделась для выхода в город за покупками и даже спустилась по ступенькам перед входной дверью, дошла до ворот. А вот двинуться дальше заставить себя не смогла. Ей снова придется отвечать на рукопожатия и приветствия, ловить на себе взгляды всех этих коултаунских персонажей, которые хохотали в голос в зале суда, присяжных и их жен…
Беата вернулась в дом и составила список покупок: все, что нужно, вместо нее купит миссис Свенсон. Ее стремление по рекомендации доктора писать Софии каждый день тоже оказалось невыполнимым: письма получались сухими, она все никак не могла придумать, о чем написать.
Во время пребывания на ферме София получила письмо от брата, в котором тот сообщал, что приедет в Коултаун на Рождество. Своими планами Роджер поделился и с матерью, а также, чтобы их поразвлечь, приложил к письму подборку своих статей, которые написал для чикагских газет за подписью «Трент».
А в ноябре Беату Эшли разбудил шум под окном: раздался резкий удар, потом что-то прошуршало, а вслед за этим послышался тихий стук. Первой ее мыслью было, что за окном похолодало и пошел ледяной дождь, но на небе сияли звезды. Она села на постели, спустила ноги на пол и прислушалась. Сердце на миг остановилось, когда в открытое окно влетели маленькие камешки гравия. Сунув ноги в шлепанцы, она плотно завернулась в халат и, прижавшись к стене, осторожно выглянула на улицу. Как раз в этот момент мужская фигура повернулась к ней спиной и поспешила в обход дома, к парадному крыльцу.
Беата спустилась вниз, постояла немного и все-таки открыла входную дверь. Никого. Она прошла на кухню, зажгла лампу и, подогрев немного молоко, стала пить мелкими глотками.
Именно так, под покровом ночи, мог вернуться Джон Эшли, именно так объявить о своем присутствии. Беата поднялась к себе, скинула шлепанцы и принялась ходить из угла в угол.
На полу не было никаких следов гравия.
II. От Иллинойса до Чили
1902–1905
Каждый вечер к одиннадцати часам в кафе «Aux Marins»[15 - «У моряков» (фр.)], расположенное в районе, примыкавшем к новоорлеанскому порту, приходил молодой человек с шелковистой бородкой цвета спелой пшеницы и оставался до двух ночи. Здесь отсутствовали привычные выпивохи, никогда не возникало перебранок и ссор. Это было место для неторопливых разговоров вполголоса о перевозках, карго и судовых командах. Если в дверях появлялся незнакомец, голоса сразу становились громче, а разговоры сворачивали на политику, погоду, женщин и карты. Кафе было на примете у полиции, поэтому Жан Ламазу – Кривой Жан – и его постоянные клиенты, остерегаясь осведомителей, внимательно наблюдали за молодым человеком с шелковистой бородкой. А тот совершенно не обращал внимания на то, что происходило вокруг, не пытался завязать разговор с кем бы то ни было, да и вообще говорил мало (но зато на настоящем французском!), а здоровался открыто и приветливо. Молодой человек читал газеты и штудировал учебник «Испанский язык за пятьдесят уроков» («Си, сень-ор, тан-го, пе-сос»). К концу третьей недели Кривой Жан настолько ослабил бдительность, что предложил незнакомцу переброситься в картишки по маленькой. Между делом молодой человек поведал, что родом из Канады, что зовут его Джеймс Толланд, и что откуда-то с севера ждет приезда своего друга, который владеет плантацией сахарного тростника на Кубе.
Джон Эшли был человеком веры, хотя и не догадывался об этом. Более того: скажи ему кто-нибудь, что он религиозен, стал бы решительно отрицать, но ведь религиозность – это всего лишь одеяние веры, причем дурно скроенное, в особенности если говорить о городке Коултаун в штате Иллинойс.
Как и большинство ему подобных, Эшли был, можно сказать, невидимым. Вы вчера могли столкнуться с человеком веры в толпе, а женщина того же свойства могла продать вам пару перчаток. Их отличительной чертой является нежелание расставаться со своей незаметностью, и только обстоятельства время от времени приподнимали их над остальными, выводя в круг света всеобщего поклонения. Эти люди пасли свои стада в деревушке Домреми, добивались торжества закона в Нью-Сейлеме, штат Иллинойс. Они ничего не боятся, не ищут для себя выгод, их душу питает вечное удивление чудесами, которые являет сама жизнь. Эти люди совершенно неинтересны. В них отсутствуют те черты характера – наши неразлучные спутники, – которые всегда привлекают интерес: агрессивность, стремление подчинять, зависть, страсть к разрушению и саморазрушению. Они избегают пафоса. Попытайтесь найти пример, когда эти люди выступали в качестве трагических персонажей (не найдете; такие попытки предпринимались, но когда страсти утихали, публика вдруг начинала понимать, что слезы, которые проливала, были бессмысленны, потому что все оплакивали самих себя). У них отсутствует чувство юмора, которое тянет за собой осознание собственного превосходства и равнодушие к чужим проблемам. В большинстве своем они косноязычны, и прежде всего в отношении того, что касается веры. Интеллектуальные силы веры – как мы еще увидим, когда будем рассматривать связь веры Эшли с математическими способностями и талантом карточного игрока, – развиваются и укрепляются благодаря умению наблюдать и цепкой памяти. Вера создает научные школы и не зависит от них. Один знаменитый мыслитель как-то сказал, что мы скорее найдем настоящую веру у старухи, которая на коленях скоблит пол в общественном здании, чем у сидящего на своем троне епископа. Мы описываем этих мужчин и женщин словами, в которых содержится отрицание, словами с частицей «не» – они ничего не боятся, не ищут выгоды, не вызывают интереса, не обладают чувством юмора, часто не имеют образования. Если так, то в чем же их ценность?
Мы не выбираем день нашего рождения или день смерти, однако выбор – это суверенное право разума. Мы не выбираем родителей, цвет кожи, пол, состояние здоровья, таланты – нас выбрасывают в бытие как игральные кости из стаканчика. Барьеры и тюремные стены окружают нас со всех сторон, препятствия повсюду – внутренние и внешние. Эти мужчины и женщины, обладающие наблюдательностью и цепкой памятью, начинают быстро ориентироваться в огромном пространстве, которое раскинулось перед ними. Они прекрасно знают себя, но собственная личность не становится для них единственным окном, через которое можно наблюдать за своим существованием, и абсолютно уверены в том, что даже самой малой частью данного нам свыше можно пользоваться свободно. Они каждодневно исследуют и осуществляют принцип свободы. Их взгляд устремлен в будущее. В трудный час они выстоят. Они спасают города, но даже если вдруг потерпят поражение, их пример спасет другие города после их гибели. Они противостоят несправедливости. Они приводят в чувство и вдохновляют отчаявшихся.
Но во что верят эти мужчины и женщины?
Они с трудом подбирают слова, когда пробуют описать объект своей веры, да и зачем? Для них это нечто само собой разумеющееся, а само собой разумеющееся не так легко описать. Вот у мужчин и женщин, которые не верят, это получается с легкостью. Они постоянно и во весь голос рассуждают на эту тему, и вдруг откуда ни возьмись появляется вера в саму жизнь и в ее смысл, в Бога, в прогресс, в гуманизм – вся эта словесная шелуха, все эти расшатанные столбы с указателями, которые никуда не ведут, вся эта взятая напрокат бижутерия, все это красноречие предателей.
Без веры и надежды не существует творчества.
Не существует веры и надежды, которые не выразили бы себя в творческом процессе. Эти мужчины и женщины постоянно трудятся. Их может лишить уверенности в себе не какая-то допущенная ошибка, не проявление невежества или жестокости, а бездеятельность. Их работа не всегда заметна – это характерный признак деятельности тех, кто не старается выставить себя на всеобщее обозрение.
Джон Эшли принадлежал именно к такой породе людей. Никаких требований исторического значения к нему не предъявлялось, и мы не знаем, как бы он откликнулся на них. Он поздно созрел, не был склонен к рефлексии и остался практически невидимкой. Позже многие пытались уловить мимолетные отражения образа Джона Эшли в его детях, но он был лишь звеном в цепи, стежком на гобелене, веточкой на дереве, осколком камня на древней дороге, ведущей пока непонятно куда.
Джон Эшли не имел представления, кем были его освободители. Возможно, чудо всегда совершается так – просто, естественно и таинственно. Действовали эти люди быстро и точно: в полном молчании перебили лампы на потолке, освободили его от наручников. Конвоиры с дикими криками метались в темноте, выстрелили пару раз, потом огонь прекратился. Его вывели – вернее, вынесли – из вагона в лесок. Один из этих людей положил его руку на седло лошади, другой передал ему темный поношенный комбинезон и кошелек, а еще маленький компас, карту и коробок спичек – и все это в полной тишине. На голову ему натянули старую бесформенную шляпу. Наконец один из них зажег спичку, и Джон увидел их лица. Эти люди совсем не походили на негров – скорее на загримированных лицедеев в каком-нибудь негритянском шоу. Самый высокий из них показал ему нужное направление, потом медленно перевел палец градусов на пятнадцать вправо.
– Спасибо, – поблагодарил Эшли, и они растворились в темноте, даже стука копыт не было слышно.
Просто, естественно и таинственно.
Оставшись один, он чиркнул спичкой, чтобы разглядеть показания компаса. Его неизвестный друг указывал в сторону юго-запада, а потом на запад. Эшли понимал, что находится сейчас где-то рядом с железнодорожным разъездом по пути в Форт-Барри. В шестидесяти милях к западу протекала Миссисипи. Переодевшись и скатав тюремную робу, он стал пристраивать ее к луке седла и наткнулся на две чересседельные сумки: одна оказалась с яблоками, другая – с овсом.