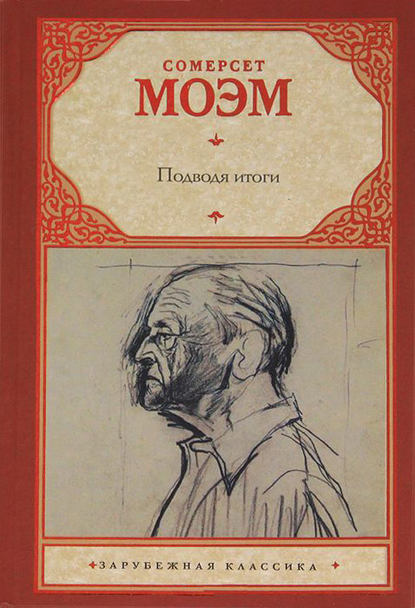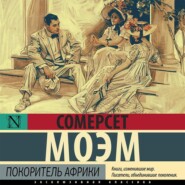По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подводя итоги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То ли следуя подсознательному убеждению, что писать так – значит насиловать свою природу, то ли в силу врожденной методичности, но я затем обратился к классикам XVIII века. Проза Свифта пленила меня. Я решил, что это – мой идеал, и принялся работать над Свифтом так же, как раньше работал над Джереми Тэйлором. Я выбрал «Сказку о бочке». Говорят, что Свифт, перечитывая ее в старости, воскликнул: «Как гениален я был в то время!» На мой взгляд, гений его лучше виден в других произведениях. «Сказка о бочке» – скучная аллегория, и ирония в ней не самого высокого разбора. Но слог – удивительный. Я не могу себе представить, чтобы можно было лучше писать по-английски. Здесь нет ни цветистых периодов, ни оригинальных оборотов, ни высокопарных образов. Это – культурная проза, естественная, сдержанная и отточенная. Никаких попыток удивить читателя необычным словоупотреблением. Похоже, будто Свифт обходился первым попавшимся словом, но, поскольку у него был острый и логический ум, это всегда оказывалось самое нужное слово, и стояло оно на нужном месте. Сила и стройность его предложений объясняются превосходным вкусом. Как и прежде, я списывал куски текста, а потом пытался воспроизвести их по памяти. Я пробовал заменять слова или ставить их в другом порядке. Я обнаружил, что единственно возможные слова – это те, которые употребил Свифт, а единственно возможный порядок – тот, в котором он их поставил. Это – безупречная проза.
Но у совершенства есть один изъян: оно может наскучить. Проза Свифта напоминает обсаженный тополями французский канал, который проходит по приветливой, живописной местности. Спокойное его очарование доставляет удовольствие, но он не будоражит чувств, не будит воображения. Плывешь и плывешь по нему и наконец чувствуешь, что тебе надоело. Вот так же, восхищаясь поразительной ясностью Свифтовой прозы, ее сжатостью, естественностью, отсутствием аффектации, все же со временем чувствуешь, что внимание твое отвлекается, если только самое содержание не удерживает его. Будь у меня возможность начать сначала, я бы, вероятно, стал изучать особенно пристально не Свифта, а Драйдена. Но когда я набрел на его прозу, я уже утерял склонность к таким трудам. Проза Драйдена восхитительна. Она не так совершенна, как у Свифта, не так изящна, как у Аддисона, но в ней пленяет какая-то весенняя веселость, разговорная легкость, жизнерадостная непосредственность. Драйден был очень хорошим поэтом, но едва ли кто-нибудь назовет его лириком; а вот его нежно переливающаяся проза, как ни странно, именно лирична. До него никто в Англии не писал такой прозы; и редко кто писал так после него. Драйден творил в удачный момент. Всем своим существом он еще чувствовал звучные периоды и барочную массивность языка времен Иакова I, а гибкость и находчивость, которые он перенял у французов, позволили ему превратить этот язык в орудие, пригодное не только для возвышенных тем, но и для выражения любой мимолетной, преходящей мысли. Он был первым из художников, работавших в стиле рококо. Если Свифт наводит на мысль о французском канале, то Драйден напоминает английскую речку, которая весело вьется среди холмов, забегает в тихие, деловитые городки и уютные деревушки, иногда вдруг задержится, разлившись широкой заводью, а потом спешит дальше, в тень лесов. Все в ней – жизнь, разнообразие, свежий воздух, и веет от нее чудесным запахом английской природы.
Работа, которую я проделал, безусловно пошла мне на пользу. Я стал писать лучше, хотя отнюдь не хорошо. Писал напряженно, слишком старательно. Я пытался строить фразы по определенной форме, но не видел, что форма выпирает наружу. Я заботился о том, как расставить слова, но не соображал, что порядок слов, естественный для начала восемнадцатого века, кажется весьма неестественным для начала двадцатого. Того, что больше всего восхищало меня в Свифте, – впечатления непогрешимости – я не мог достичь, покуда старался его копировать. Тогда я написал несколько пьес, забросив все, кроме диалога. Лишь пять лет спустя я опять взялся за роман. Но к тому времени я уже не ставил себе стилистических задач. Я решил писать без всяких ухищрений, в возможно более оголенной и неприкрашенной манере. Мне столько нужно было сказать, что я не мог позволить себе роскошь даром тратить слова. Я хотел только излагать факты. Я поставил себе недостижимую цель – вовсе не употреблять прилагательных. Мне казалось, что, если найти правильное слово, можно обойтись без эпитета. Книга моя представлялась мне в виде длинной телеграммы, в которой экономии ради опущены все слова, не абсолютно необходимые для передачи смысла. Я не перечитывал ее после того, как держал корректуру, и не знаю, в какой мере удалась моя попытка. Сколько помнится, написана эта книга, во всяком случае, более естественно, чем все, что я писал раньше; но я не сомневаюсь, что местами она сделана неряшливо и, вероятно, в ней немало грамматических ошибок.
С тех пор я написал еще много книг. И хотя я перестал систематически изучать старых мастеров (дух бодр, но плоть немощна!), но всегда и все более усердно старался писать как можно лучше. Я установил пределы своих возможностей и, как мне казалось, выбрал единственно разумный путь – стремиться к максимальному совершенству в этих пределах. Я уже знал, что не наделен лиризмом. Словарь мой был беден, и никакими усилиями я не мог существенно его расширить. Мне плохо давалась метафора; оригинальное, запоминающееся сравнение редко приходило мне в голову. Поэтические взлеты, широта воображения были мне не по силам. Я восхищался ими у других писателей, так же как их сложными тропами и необычным, полным недомолвок, языком, в который они облекали свои мысли; но собственный мой мозг не подсказывал мне таких прикрас, а я устал пытаться делать то, что не получалось у меня само собою. С другой стороны, я был наделен острой наблюдательностью, и мне казалось, что я вижу много такого, что ускользает от внимания других людей. Я умел ясно описать то, что видел. Я мыслил логично и если не обладал особым чутьем к изысканным, экзотическим словам, то, во всяком случае, способен был оценить звучание слова. Я знал, что никогда не буду писать так хорошо, как мне бы хотелось, но не терял надежды научиться писать настолько хорошо, насколько это возможно при моих природных недостатках. После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию. Порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, какое я им придавал.
XI
Меня всегда раздражали писатели, которых можно понять только ценою больших усилий. Достаточно обратиться к великим философам, чтобы убедиться, что самые тонкие оттенки смысла можно выразить совершенно ясно. Я допускаю, что вам нелегко будет понять мысль Юма и, если у вас нет философской подготовки, вы, конечно, не уловите всех ее разветвлений; но значение каждой отдельной фразы поймет любой мало-мальски образованный человек. Редко кто писал по-английски так изящно, как Беркли. Писатели бывают непонятны по двум причинам: одни – по небрежности, другие – нарочно. Многие люди пишут непонятно, потому что не дали себе труда научиться писать ясно. Такую непонятность часто, слишком часто, встречаешь у современных философов, у ученых и даже у литературных критиков. Последнее воистину достойно удивления. Казалось бы, люди, всю жизнь изучающие великих мастеров литературы, должны быть достаточно восприимчивы к красоте языка, чтобы выражаться если не красиво, то хотя бы ясно. А между тем их труды пестрят фразами, которые нужно перечитать и раз и другой, чтобы добраться до смысла. Подчас о нем можно только догадываться, потому что сказано у автора явно не то, что он хотел сказать.
А бывает, что автор и сам не уверен в том, что он хочет сказать. Он имеет об этом лишь смутное представление, которое либо не сумел, либо поленился ясно сформулировать в уме, а найти точное выражение для путаной мысли, разумеется, невозможно. Объясняется это отчасти тем, что писатели думают не до того, как писать, а в то время, как пишут. Перо порождает мысль. Опасность этого – и писатель всегда должен остерегаться ее – заключается в том, что написанное слово гипнотизирует. Мысль, облекшись в видимую форму, становится вещественной, и это мешает ее уточнению. Но такая неясность легко переходит в неясность нарочитую. Некоторые писатели, не умеющие четко мыслить, склонны считать свои мысли более значительными, чем это кажется с первого взгляда. Им лестно думать, что мысли их необычайно глубоки, а значит, их нельзя выразить так, чтобы они были понятны кому угодно. Таким писателям, конечно, не приходит в голову, что вся беда – в их неспособности к точному мышлению. И здесь опять действует гипноз написанного слова. Очень легко убедить себя, будто фраза, которую не вполне понимаешь, на самом деле сугубо значительна. А отсюда – один шаг до привычки закреплять свои впечатления на бумаге во всей их изначальной туманности. Всегда найдутся дураки, которые отыщут в них скрытый смысл. Другой вид нарочитой непонятности рядится в одежды аристократизма. Автор затуманивает свою мысль, чтобы сделать ее недоступной для толпы. Его душа – таинственный сад, куда могут проникнуть лишь избранные, если преодолеют целый ряд опасных препятствий. Но такая непонятность не только претенциозна, она еще и недальновидна. Ибо Время играет с ней странные шутки. Если в писаниях мало смысла, Время превращает их в совсем уже бессмысленный набор слов, которого никто не читает. Такая участь постигла ухищрения тех французских писателей, которых соблазнил пример Гийома Аполлинера. Бывает и так, что Время бросает резкий, холодный свет на то, что казалось глубоким, и тогда обнаруживается, что за языковыми вывертами прячутся весьма обыденные мысли. Стихи Малларме, за малыми исключениями, сейчас совершенно понятны; нельзя не заметить, что мысли его на редкость неоригинальны. У него есть красивые фразы; но материалом для его стихов служили поэтические трюизмы его времени.
XII
Простота – не столь очевидное достоинство, как ясность. Я всегда стремился к ней, потому что у меня нет таланта к пышности языка. До известного предела я восхищаюсь пышностью у других писателей, хотя в больших дозах мне трудно бывает ее переварить. Одну страницу Рескина я читаю с наслаждением, но после двадцати чувствую только усталость. Плавный период; полный достоинства эпитет; слово, богатое поэтическими ассоциациями; придаточные, от которых предложение обретает вес и торжественность; величавый ритм, как волна за волной в открытом море, – во всем этом, несомненно, есть что-то возвышающее. Слова, соединенные таким образом, поражают слух, как музыка. Впечатление получается скорее чувственное, чем интеллектуальное, красота звуков как будто освобождает от необходимости вдумываться в смысл. Но слова – великие деспоты, они существуют в силу своего смысла, и, отвлекшись от смысла, отвлекаешься от текста вообще. Мысли начинают разбегаться. Такая манера письма требует подобающей ей темы. Нельзя писать высоким слогом о пустяках. Никто не пользовался им с большим успехом, чем сэр Томас Браун, но и он не всегда избегал этой ловушки. Тема последней главы «Гидриотафии» («Погребения урн») – судьба человека – вполне соответствует пышному барокко языка, и здесь доктор из Норича создал страницы прозы, непревзойденные в нашей литературе; но когда он в той же пышной манере описывает, как были найдены его урны, эффект (по крайней мере на мой взгляд) получается менее удачный. Когда современный писатель в высокопарном стиле сообщает вам, как обыкновенная потаскушка юркнула или не юркнула под одеяло к ничем не примечательному молодому человеку, это вызывает у вас законное отвращение.
Но если для пышности слога нужен талант, которым наделен не всякий, простота – отнюдь не врожденное свойство. Чтобы добиться ее, необходима строжайшая дисциплина. Сколько мне известно, наш язык – единственный, в котором пришлось создать особое обозначение для определенного вида прозы – purple patsh. He будь она столь характерной, в этом не было бы надобности. Английская проза скорее вычурна, чем проста. Но так было не всегда. Нет ничего более хлесткого, прямолинейного и живого, чем проза Шекспира; однако следует помнить, что это был диалог, рассчитанный на устную речь. Мы не знаем, как писал бы Шекспир, если бы он, подобно Корнелю, сочинял предисловия к своим пьесам. Возможно, они были бы столь же манерны, как письма королевы Елизаветы. Но более ранняя проза, например проза сэра Томаса Мора, не тяжеловесна, и не цветиста, и не выспренна. От нее отдает английской землей. Мне думается, что Библия короля Иакова оказала пагубное влияние на английскую прозу. Я не так глуп, чтобы отрицать ее красоту. Она величественна. Но Библия – восточная книга. Образность ее нам бесконечно далека. Эти гиперболы, эти сочные метафоры чужды нашему духу. На мой взгляд, не меньшим из зол, какие причинило духовной жизни в нашей стране отделение от римско-католической церкви, было то, что Библия надолго стала ежедневным, а нередко и единственным чтением англичан. Ее ритм, мощность ее словаря, ее высокопарность вошли в кровь и плоть нации. Простая, честная английская речь захлебнулась во всевозможных украшениях. Туповатые англичане вывихивали себе язык, стремясь выражаться, как иудейские пророки. Видимо, были для этого в английском характере какие-то данные: быть может, природная неспособность к точному мышлению, быть может, наивное пристрастие к красивым словам ради них самих или врожденная эксцентричность и любовь к затейливым узорам – не знаю; но верно одно: с тех самых пор английской прозе все время приходится бороться с тенденцией к излишествам. Если по временам исконный дух языка утверждал себя, как у Драйдена и у писателей царствования королевы Анны, его затем снова захлестывала помпезность Гиббона или доктора Джонсона. В работах Хэзлитта, в письмах Шелли, в лучших страницах Чарльза Лэма английская проза вновь обретала простоту – и вновь утрачивала ее в произведениях де Квинси, Карлейля, Мередита и Уолтера Патера. Высокий стиль, несомненно, поражает больше, чем простой. Мало того, многие считают, что стиль, который не привлекает внимания, – вообще не стиль. Такие люди восхищаются Уолтером Патером, но способны прочесть эссе Мэтью Арнольда и даже не заметить, как изящно, благородно и сдержанно он излагает свои мысли.
Хорошо известно изречение, что стиль – это человек. Афоризм этот говорит так много, что не значит почти ничего. Где мы видим Гёте-человека – в его грациозных лирических стихах или в его неуклюжей прозе? А Хэзлитта? Но я думаю, что если человек неясно мыслит, то он и писать будет неясно, если у него капризный нрав, то и проза его будет прихотлива, а если у него быстрый, подвижный ум и любой предмет напоминает ему о сотне других, то он, при отсутствии строгого самоконтроля, будет уснащать свой текст сравнениями и метафорами. Есть большая разница между велеречивостью писателей начала XVII века, которых опьяняли новые богатства, лишь недавно привнесенные в язык, и напыщенностью Гиббона и доктора Джонсона, которые были жертвой дурной теории. Каждое слово, написанное доктором Джонсоном, доставляет мне удовольствие, потому что он был остроумен, обаятелен и наделен здравым смыслом. Никто не мог бы писать лучше его, если бы он – вполне сознательно – не прибегал к высокому слогу. Он умел ценить хороший английский язык. Ни один критик не хвалил прозу Драйдена с таким знанием дела. Он сказал, что суть искусства Драйдена – находить ясное выражение для сильной мысли. А одно из своих «жизнеописаний» он закончил так: «Всем, кто хочет выработать себе английский слог, натуральный, но не грубый, и изящный, но не бьющий в глаза, должно посвятить дни и ночи томам Аддисона». Однако, когда он сам брался за перо, цель у него была иная. Высокопарность он принимал за благородство. Ему не хватало воспитания, чтобы понять, что первый признак благородства – это естественность и простота.
Ибо хорошая проза немыслима без воспитанности. В отличие от поэзии проза – упорядоченное искусство. Поэзия – это барокко. Барокко – трагичный, массивный, мистический стиль. Оно стихийно. Оно требует глубины и прозрения. Мне все кажется, что прозаики периода барокко – авторы Библии короля Иакова, сэр Томас Браун, Гленвиль – были заблудившимися поэтами. Проза – это рококо. Она требует не столько мощи, сколько вкуса, не столько вдохновения, сколько стройности, не столько величия, сколько четкости. Для поэта форма – это узда и мундштук, без которых вы не поедете верхом (если только вы не циркач); но для прозаика это – шасси, без которого ваша машина просто не существует. Не случайно, что лучшая проза была написана, когда рококо с его изяществом и умеренностью только еще родилось и находилось в самой совершенной своей поре. Ибо рококо возникло тогда, когда барокко выродилось в декламацию и мир, устав от грандиозного, взывал о сдержанности. Оно явилось естественным самовыражением для тех, кто ценил цивилизованную жизнь. Юмор, терпимость и здравый смысл сделали свое дело: большие, трагические проблемы, волновавшие первую половину XVII века, стали казаться чрезмерно раздутыми. Жить на свете сделалось удобнее и уютнее, и культурные классы, возможно впервые за много веков, могли спокойно посидеть и насладиться досугом. Говорят, что хорошая проза должна походить на беседу воспитанного человека. Беседа возможна лишь в том случае, если ум у людей свободен от насущных тревог. Жизнь их должна быть более или менее в безопасности, и душа не должна причинять им серьезных волнений. Они должны придавать значение утонченным благам цивилизации. Они должны ценить вежливость, заботиться о своей внешности (ведь говорят также, что хорошая проза должна быть как хорошо сшитый костюм – подходящей к случаю, но не кричащей), должны бояться наскучить другим, не должны быть ни слишком веселы, ни слишком серьезны, но всегда находить верный тон, а на «восторги» должны взирать критически. Вот это – почва, весьма благоприятная для прозы. Неудивительно, что она породила лучшего прозаика нашего современного мира – Вольтера. Английские писатели, может быть в силу поэтического характера своего языка, редко достигали того совершенства, которое ему словно бы давалось само собой. И восхищения они заслуживают постольку, поскольку умели приблизиться к легкости, уравновешенности и точности великих французов.
XIII
Придавать ли цену благозвучию – третьему из упомянутых мною качеств, – это зависит от тонкости слуха. Очень многие читатели и многие прекрасные писатели лишены его. Поэты, как мы знаем, всегда широко пользовались аллитерацией. Они убеждены, что повторение звука создает красивый эффект. К прозе это, по-моему, не относится. Мне кажется, что в прозе к аллитерации можно прибегать только умышленно; случайная аллитерация режет ухо. Однако встречается она так часто, что остается лишь предположить, что неприятна она далеко не всем. Многие писатели совершенно спокойно ставят рядом два рифмующихся слова, предваряют чудовищно длинное существительное столь же длинным прилагательным или допускают в конце одного слова и в начале следующего такое скопление согласных, что язык сломаешь. Это – примеры банальные и очевидные. Я привел их лишь в доказательство того, что если такие вещи делают писатели, внимательно относящиеся к своему языку, значит, у них просто нет слуха. Слова имеют вес, звук и вид; только помня обо всех трех этих свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаза, и для уха.
Я прочел много книг об английской прозе, но извлечь из них пользу оказалось нелегко; по большей части они расплывчаты, слишком теоретичны и зачастую недоброжелательны. Нельзя сказать того же о «Словаре живого английского языка» Фаулера. Это – ценный труд. Как бы хорошо человек ни писал, здесь он может найти для себя много полезного. Читать его интересно. Фаулер любил простоту, строгость и здравый смысл. Претенциозность его раздражала. Он держался здравой точки зрения, что идиоматика – костяк языка, и высоко ценил хлесткие обороты. Он не грешил рабским преклонением перед логикой и всегда готов был проложить дорогу живому разговорному языку через слишком жесткие барьеры грамматики. Английская грамматика очень трудна, лишь немногие авторы пишут совсем без грамматических ошибок. Даже Генри Джеймс, писатель на редкость осмотрительный, подчас так пренебрегал грамматикой, что любой школьный учитель, найди он такие ошибки в сочинении школьника, преисполнился бы справедливого негодования. Знать грамматику нужно, и лучше писать без ошибок, чем с ошибками, но следует помнить, что грамматика – лишь повседневная речь, сведенная к правилам. Единственный критерий – это живой язык. Строго правильному обороту я всегда предпочту оборот легкий и естественный. Одно из различий между английским и французским языком состоит в том, что по-французски можно соблюдать правила грамматики, оставаясь естественным, а по-английски – далеко не всегда. Писать по-английски трудно потому, что звук живого голоса доминирует над видом напечатанного слова. Я много думал над вопросами стиля и положил на него много трудов. Я знаю, что среди написанных мною страниц мало таких, которые я не мог бы улучшить, и слишком много таких, на которые я махнул рукой, потому что не мог добиться лучшего, как ни старался. Я не могу сказать о себе того, что Джонсон сказал о Попе: «Он никогда не оставлял изъяна неисправленным от равнодушия, ниже проходил мимо него от отчаяния». Я пишу не так, как хочу; я пишу, как могу.
Но у Фаулера не было слуха. Он не понимал, что иногда простота должна отступать перед благозвучием. Я считаю, что несколько искусственное, или устарелое, или даже аффектированное слово вполне приемлемо, если оно звучит лучше, чем простое, «лежащее рядом», или придает фразе большую стройность. Но спешу оговориться: я считаю, что можно смело идти на такие уступки ради приятного звучания, но ни в коем случае и ни ради чего нельзя жертвовать ясностью выражения мысли. Нет ничего хуже, чем писать неясно. Против ясности нельзя привести никаких возражений, против простоты – лишь то, что она может обратиться в сухость. А на этот риск стоит идти, если вспомнить, насколько лучше быть лысым, нежели носить завитой парик. Но в благозвучии таится другая опасность: оно легко становится однообразным. Когда Джордж Мур начинал писать, язык его был беден; так и кажется, будто он писал тупым карандашом на оберточной бумаге. Постепенно, однако, у него выработался очень музыкальный английский язык. Он научился делать фразы, завораживающие своей томной неторопливостью, и это ему так понравилось, что он уже не мог остановиться. Он не избежал однообразия. Строки его звучат, как волны, взбегающие на низкий каменистый берег, – они убаюкивают, и их быстро перестаешь замечать. Они так мелодичны, что вызывают смутную потребность чего-то погрубее, какого-то резкого диссонанса, который нарушил бы эту шелковистую гармонию. Как уберечься от этого – не знаю. Вероятно, единственное спасение в том, чтобы острее своих читателей реагировать на монотонность, тогда она надоест тебе раньше, чем им. Нужно все время остерегаться нарочитых приемов и, когда какая-нибудь ритмическая фигура слишком легко выходит из-под пера, спрашивать себя, не стала ли она получаться механически. Очень трудно уловить момент, когда отобранные тобою выразительные средства перестают давать нужный эффект. Как сказал доктор Джонсон: «Тот, кто однажды с великим прилежанием выработал свой стиль, редко пишет затем вполне непринужденно». Как ни замечательно стиль Мэтью Арнольда соответствовал его задачам, я должен сказать, что излюбленные его приемы часто меня раздражают. Его стиль – орудие, которое он выковал раз и навсегда, а не человеческая рука, способная выполнять множество разных действий.
Если б можно было писать ясно, просто, благозвучно и притом с живостью, это было бы совершенство: это значило бы писать, как Вольтер. А между тем мы знаем, как опасна погоня за живостью: она может привести к скучной акробатике Мередита. Маколей и Карлейль замечательны каждый по-своему, но лишь за счет драгоценного свойства – естественности. Их яркие эффекты мешают сосредоточиться. Они разрушают собственную убедительность; вы не поверили бы, что человек твердо намерен провести плугом борозду, если бы он таскал с собою обруч и на каждом шагу прыгал через него. Хороший стиль не должен хранить следа усилий. Написанное должно казаться счастливой случайностью. По-моему, никто во Франции не пишет лучше, чем Колетт, и звучит у нее все так легко, что невозможно поверить, будто это стоило ей какой-то работы. Говорят, есть пианисты, от рождения владеющие техникой, которой большинство исполнителей добивается неустанным трудом, и я готов поверить, что среди писателей тоже есть такие счастливцы. К ним я и склонен был причислить Колетт. Я спросил ее, верно ли это. К великому своему удивлению, я услышал в ответ, что она иногда целое утро работает над одной страницей. Но не важно, как достигается впечатление легкости. Я, например, если и достигаю его, то лишь ценой серьезных усилий. Редко когда верное и притом не искусственное и не банальное слово или оборот подвертываются мне сами собой.
XIV
Я где-то читал, что Анатоль Франс старался употреблять только словарь и конструкции писателей XVII столетия, которыми он так восхищался. Не знаю, так ли это. Если так, то этим, возможно, объясняется некоторый недостаток живости в его прекрасном и простом языке. Но простота фальшива, когда писатель не говорит того, что ему нужно сказать, лишь потому, что не может сказать это определенным образом. Писать нужно в манере своего времени. Язык живет и непрерывно изменяется; попытки писать, как в далеком прошлом, могут привести только к искусственности. Ради живости слога и приближения к современности я не колеблясь употреблю ходячее словечко, хотя и знаю, что мода на него скоро пройдет, или сленг, который через десять лет, вероятно, будет непонятен. Если общая форма достаточно строга, она выдержит умеренное использование языковых элементов, имеющих лишь местную или временную ценность. Вульгарного писателя я предпочитаю жеманному; ведь сама жизнь вульгарна, а он стремится изобразить жизнь.
Мне кажется, что мы, английские писатели, можем многому поучиться у наших американских собратьев. Ибо американская литература избежала деспотического влияния Библии короля Иакова и на американских писателей оказали меньшее воздействие старые мастера, чья манера писать стала частью нашей культуры. Вырабатывая свой стиль, они, может быть бессознательно, больше равнялись на живую речь, звучавшую вокруг них; и в лучших своих образцах этот стиль отмечен прямотой, жизненностью и силой, перед которыми наш, более культурный, кажется изнеженным. Американским писателям, из которых многие в тот или иной период были репортерами, пошло на пользу, что в своей газетной работе они пользовались более лаконичным, нервным и выразительным языком, чем это принято у нас. Мы сейчас читаем газеты так, как наши предки читали Библию. И это полезно: ведь газета, особенно дешевая, обогащает нас опытом, которым мы, писатели, не вправе пренебрегать. Это – сырье прямо с живодерни, и глупы мы будем, если вздумаем воротить от него нос, потому что оно, мол, пахнет кровью и потом. При всем желании мы не можем избежать воздействия этой будничной прозы. Но стилистически пресса того или иного периода очень однородна; похоже, словно всю ее пишет один человек; она безлична. Ее воздействию следует противопоставить чтение иного рода. Для этого есть один путь: непрерывно поддерживать связь с литературой другой, но не слишком отдаленной эпохи. Тогда у вас будет мерка, по которой проверять свой стиль, и идеал, к которому можно стремиться, оставаясь, однако современным. Для меня самыми полезными в этом смысле писателями оказались Хэзлитт и кардинал Ньюмен. Я не пытался им подражать. Хэзлитт бывает излишне риторичен, и красоты его порой тривиальны, как викторианская готика. Ньюмен бывает не в меру цветист. Но в лучших своих страницах оба превосходны. Время мало коснулось их языка – это язык почти современный. Хэзлитт пишет ярко, бодро, энергично; он полон жизни и силы. В его фразах чувствуется человек – не тот мелочный, сварливый, неприятный человек, каким он казался знавшим его, но внутреннее его «я», видное лишь ему самому. (А ведь наше внутреннее «я» не менее реально, чем тот жалкий, спотыкающийся человек, которого видят другие.) Ньюмен – это грация, музыка – то легкая, то серьезная, – это чарующая красота языка, благородство и мягкость. И тот и другой писали ясно до предела. Оба, на самый строгий вкус, недостаточно просты. В этом они, мне кажется, уступают Мэтью Арнольду. Оба писали удивительно стройными фразами, и оба умели писать приятно для глаза. У обоих был очень тонкий слух.
Тот, кто сочетал бы их достоинства с современной манерой, писал бы так хорошо, как только возможно писать.
XV
Время от времени я задаю себе вопрос: лучше или нет я писал бы, если бы посвятил литературе всю жизнь? Еще очень давно, не помню точно, в каком возрасте, я решил, что, поскольку жизнь у меня одна, я должен взять от нее все, что можно. Мне казалось, что только писать – это мало. Я задумал составить программу своей жизни, в которой писательство заняло бы важнейшее место, но которая включила бы и все другие виды человеческой деятельности и которую в конце концов дополнила бы и завершила смерть. Мне многого недоставало. Я был мал ростом; вынослив, но не силен физически; я заикался, был застенчив и слаб здоровьем. У меня не было склонности к спорту, который занимает столь важное место в жизни англичан; и – то ли по одной из этих причин, то ли от рождения – я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться. В разное время я любил отдельных людей; но к людям вообще никогда не чувствовал особой симпатии. Я лишен той располагающей общительности, которая позволяет с первого же знакомства завязывать дружбу. С годами я научился изображать сердечность при вынужденном контакте с посторонними, но никто никогда мне не нравился с первого взгляда. Кажется, ни разу в жизни я не заговаривал с незнакомыми людьми в вагоне или на пароходе. Из-за плохого здоровья я не мог общаться с себе подобными на почве алкоголя: задолго до того, как я мог бы достигнуть той степени опьянения, когда для многих, более удачливых, все люди становятся братьями, желудок мой восставал, и меня начинало немилосердно тошнить. Все это – серьезные помехи и для человека, и для писателя. Пришлось с ними как-то справляться. Я упорно следовал своей программе. Вероятно, она была весьма несовершенна, но думаю, что на большее я не мог рассчитывать в данных обстоятельствах и при очень ограниченных возможностях, которые были отпущены мне природой.
Аристотель, пытаясь определить, какая функция свойственна только человеку, решил, что поскольку он способен к росту, как растения, и к чувствованию, как животные, но, кроме того, наделен разумом, значит, его специфическая функция – деятельность души. Из этого он заключил, что человеку следует развивать не все эти три формы деятельности (что было бы логично), но лишь ту, которая присуща ему одному. Философы и моралисты всегда относились к телу с недоверием. Они указывали, что физические наслаждения преходящи. Но наслаждение – все равно наслаждение, даже если оно не длится вечно. В жаркий день приятно окунуться в холодную воду, хотя через минуту тело уже перестает ощущать холод. Ведь белое со временем не становится белее. В ту пору я считал частью своей программы испытать все удовольствия, какие доставляют нам чувства. Я не боялся излишеств – сплошь и рядом они нас подстегивают. Они не дают умеренности превратиться в скучную привычку. Они тонизируют организм и успокаивают нервы. Нередко дух свободнее всего тогда, когда тело пресыщено наслаждением; так звезды кажутся ярче, если смотреть на них не с вершины холма, а из сточной канавы. Самое острое из чувственных наслаждений – это физическая любовь. Я знавал мужчин, посвящавших ей всю жизнь; теперь это старики, но они считают, как я не без удивления замечал, что жизнь свою прожили с толком. Сам я из-за врожденной привередливости, к сожалению, испытал этих радостей меньше, чем мог бы. Я проявлял умеренность, потому что на меня трудно угодить. Бывало, что при виде тех, с кем удовлетворяли свои желания великие любовники, я больше дивился их всеядности, нежели завидовал их успехам. Ясно, что человеку не часто придется голодать, если он готов обедать бараньим рагу и пареной репой.
Большинство людей живут от случая к случаю – носятся по воле ветра. Многих среда, окружавшая их с детства, и необходимость зарабатывать на жизнь заставляют идти прямой дорогой, с которой не свернешь ни вправо, ни влево. Им программа навязана извне, самой жизнью. Она вполне может оказаться такой же полной, как и та, которую человек разрабатывает сознательно. Но у художника положение особое. Я пользуюсь словом «художник» не для того, чтобы подчеркнуть особую ценность его продукции, но просто для обозначения человека, занимающегося искусством. Лучшего слова я не нашел. Творец – претенциозно и как бы предполагает оригинальность, которая на самом деле обычно отсутствует. Мастер – недостаточно. Плотник тоже мастер, и хотя в узком смысле слова он может быть художником, он, как правило, не имеет той свободы действий, какой пользуется самый безграмотный писака, самый бездарный мазилка. В известных пределах художник может распорядиться своей жизнью, как захочет. Что касается других профессий, например врача или юриста, вы вольны остановить или не остановить на них свой выбор, но, раз выбрав, вы уже не свободны. Вы связаны законами своей профессии, вынуждены соблюдать те или иные правила поведения. Программа ваша предопределена. Только художник да еще, пожалуй, преступник может составить ее сам.
Наметить себе программу жизни еще в юности меня заставила, быть может, врожденная методичность, а быть может, нечто, что я открыл в себе и о чем речь пойдет ниже. У такой затеи есть изъян – она может убить непосредственность. Одно из существенных различий между живыми людьми и литературными персонажами состоит в том, что живые люди – создания импульсивные. Кто-то сказал, что быть метафизиком – значит находить неубедительные причины для того, во что мы верим инстинктивно; с тем же успехом можно сказать, что в жизни мы пользуемся своей способностью рассуждать, чтобы оправдывать поступки, которые совершаем потому, что нам так хочется. И не противиться импульсам тоже входит в программу. Мне кажется, у такой программы есть более серьезный изъян: она заставляет слишком много жить в будущем. Я давно знаю за собой этот недостаток и старался от него избавиться, но безуспешно. Никогда, разве что сознательным усилием воли, я не просил мгновение помедлить, чтобы я мог полнее им насладиться, потому что, даже когда оно приносило мне что-то, чего я очень, очень ждал и хотел, воображение мое сразу же переносилось к проблематичным радостям будущего. Всякий раз, как я шел по южной стороне Пикадилли, мне страшно хотелось знать, что происходит на северной. Это – безумие. Миг настоящего – это все, в чем мы можем быть уверены; как же не извлечь из него всю возможную ценность? Будущее в свое время станет настоящим и покажется столь же неинтересным, как настоящее кажется сейчас. Но такие здравые соображения мне не помогают. Я не жалуюсь на настоящее, я просто принимаю его. Оно – часть программы, но интересует меня то, чего еще нет.
Я наделал немало ошибок. Временами я попадал в ловушку, которая подстерегает всякого писателя, – у меня являлось желание самому совершить некоторые поступки, которые я заставлял совершать вымышленных мною героев. Я пытался делать вещи, по природе мне несвойственные, и упорствовал, из тщеславия отказываясь признать себя побежденным. Я слишком считался с чужим мнением. Я шел на жертвы ради недостойных целей, потому что у меня не хватало смелости причинить боль. Я совершал безрассудства. У меня беспокойная совесть, и некоторые свои поступки я не в состоянии окончательно забыть. Если бы мне выпало счастье быть католиком, я мог бы освободиться от них на исповеди и, отбыв наложенную на меня епитимью, получить отпущение и раз навсегда выкинуть их из головы. Но мне пришлось обходиться здравым смыслом. Я не жалею о прошлом: мне думается, что на собственных серьезных проступках я научился снисходительности к людям. Это потребовало долгого времени. В молодости я был жестоко нетерпим. Помню, как возмутило меня чье-то замечание (отнюдь не оригинальное, но для меня в то время новое), что лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели. Я считал, что скрывать свои пороки не следует. У меня были высокие идеалы честности, неподкупности, правдивости. Меня бесила не человеческая слабость, а трусость, и я был беспощаден ко всяким обинякам и уверткам. Мне и в голову не приходило, что никто так не нуждается в снисходительности, как я.
XVI
На первый взгляд странно, что собственные проступки кажутся нам настолько менее предосудительными, чем чужие. Вероятно, это объясняется тем, что мы знаем все обстоятельства, вызвавшие их, и поэтому прощаем себе то, чего не прощаем другим. Мы стараемся не думать о своих недостатках, а когда бываем к тому вынуждены, легко находим для них оправдания. Скорее всего так и следует делать: ведь недостатки – часть нашей натуры, и мы должны принимать плохое в себе наряду с хорошим. Но других мы судим, исходя не из того, какие мы есть, а из некоего представления о себе, которое мы создали, исключив из него все, что уязвляет наше самолюбие или уронило бы нас в глазах света. Возьмем самый элементарный пример: мы негодуем, уличив кого-нибудь во лжи; но кто из нас не лгал, и притом сотни раз? Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди были слабы и мелочны, нечестны или себялюбивы, развратны, тщеславны или невоздержанны; и многие считают непозволительным открывать публике глаза на недостатки ее кумиров. Я не вижу особой разницы между людьми. Все они – смесь из великого и мелкого, из добродетелей и пороков, из благородства и низости. У иных больше силы характера или больше возможностей, поэтому они могут дать больше воли тем или иным своим инстинктам, но потенциально все они одинаковы. Сам я не считаю себя ни лучше, ни хуже большинства людей, но я знаю, что, расскажи я о всех поступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались у меня в мозгу, меня сочли бы чудовищем.
Мне непонятно, как у людей хватает духу осуждать других, когда им стоит только оглянуться на собственные мысли. Немалую часть своей жизни мы проводим в мечтах, и чем богаче у нас воображение, тем они разнообразнее и ярче. Многие ли из нас захотели бы увидеть свои мечты механически записанными? Да мы бы сгорели от стыда. Мы возопили бы, что не могли мы быть так подлы, так злы, так мелочны, так похотливы, лицемерны, тщеславны, сентиментальны. А между тем наши мечты – такая же часть нас самих, как и наши поступки, и, будь наши сокровенные мысли кому-нибудь известны, мы бы и отвечать за них должны были в равной мере. Люди забывают, какие отвратительные мысли порою приходят им в голову, и возмущаются, обнаружив их у других. Гёте рассказывает в своей «Поэзии и правде», как в юности ему претила мысль, что отец его – всего-навсего франкфуртский бюргер и стряпчий. Он чувствовал, что в жилах его течет голубая кровь. И вот он пытался убедить себя, что какой-нибудь князь, проездом во Франкфурте, встретил и полюбил его мать и что он – плод этого союза. Редактор того издания, которое я читал, снабдил это место негодующим примечанием. Он решил, что недостойно великого поэта было бросить тень на всем известную добродетель своей матери ради снобистского удовольствия выставить себя незаконнорожденным аристократом. Конечно, Гёте поступил по-свински, но в этом не было ничего неестественного, скажу больше – ничего из ряда вон выходящего. Вероятно, почти всякий романтически настроенный, строптивый и мечтательный мальчишка носился с мыслью, что он не может быть сыном своего скучного, почтенного папаши, а свое воображаемое превосходство объяснял, смотря по личным склонностям, происхождением от какого-нибудь венценосца, государственного деятеля или безвестного поэта. Олимпийство позднего Гёте преисполняет меня глубокого уважения; это же признание будит более теплые чувства. Человек остается человеком, даже если пишет великие произведения.
Надо полагать, что именно такие бесстыдные, безобразные, подлые и эгоистичные мысли неотступно мучили святых, уже после того, как они посвятили свою жизнь добрым делам и покаянием смыли грехи прошлого. Святой Игнатий Лойола, как известно, отправился в обитель Монсеррат, исповедался там и получил отпущение грехов; но сознание собственной греховности по-прежнему его терзало, так что он готов был покончить с собой. До своего обращения он вел жизнь, обычную для знатного молодого человека того времени. Он немного кичился своей внешностью, знался с женщинами, играл в кости; но по меньшей мере один раз проявил редкое великодушие и всегда был честен, добр и смел. А душевного покоя он не обрел потому, что не мог простить себе своих мыслей. Приятно было бы знать наверняка, что даже святые не избежали этой участи. Глядя на великих мира сего, как они выступают в своей официальной роли, такие праведные, полные достоинства, я часто спрашивал себя, помнят ли они в эти минуты, о чем иногда думают наедине, и не смущает ли их порою мысль о тайнах, которые кроются за их сублимированным обликом. Зная, что тайные мысли свойственны всем людям, мы, по-моему, должны быть очень терпимы и к себе, и к другим. А кроме того, к своим близким, даже самым знаменитым и респектабельным, лучше относиться с юмором, да и самих себя не принимать слишком всерьез. Слушая, как елейно читает мораль какой-нибудь судья в суде Олд-Бейли, я спрашивал себя, неужели он забыл свою человеческую сущность так основательно, как это явствует из его слов? И у меня возникало желание, чтобы возле его милости рядом с букетом цветов лежала пачка туалетной бумаги. Это напоминало бы ему, что он – такой же человек, как все.
XVII
Меня часто называют циником. Меня обвиняют в том, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть на самом деле. По-моему, я в этом неповинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза. На мой взгляд, самое характерное в людях – это непоследовательность. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел цельную личность. Меня и сейчас поражает, какие, казалось бы, несовместимые черты уживаются в человеке и даже производят в совокупности впечатление гармонии. Я часто задумывался над этим. Я знавал мошенников, способных жертвовать собой, воришек с ангельским характером и проституток, почитавших делом чести на совесть обслуживать клиентов. Объяснить это я могу только тем, что в глубине души каждый человек твердо убежден в своей исключительности, а потому считает для себя не то чтобы естественным и правильным, но, во всяком случае, простительным то, что для других может быть и не дозволено. Контрасты, которые я наблюдал в людях, интересовали меня, но мне не кажется, что я отводил им неправомерно большое место. Строгая критика, которой я время от времени подвергался, была, возможно, вызвана тем, что я не осуждал своих персонажей за то, что в них было плохого, и не хвалил за хорошее. Пусть это очень дурно, но я неспособен серьезно возмущаться чужими грехами, если только они не касаются меня лично, да и тогда тоже. Я наконец научился прощать все и всем. Не надо ждать от людей слишком многого. Будь благодарен за хорошее обращение, но не сетуй на плохое. «Ибо каждого из нас, – как сказал Афинский Незнакомец, – сделало тем, что он есть, направление его желаний и природа его души». Только недостаток воображения мешает увидеть вещи с какой-либо точки зрения, кроме своей собственной, и неразумно сердиться на людей за то, что они его лишены.
По-моему, я действительно заслуживал бы порицания, если бы видел в людях только недостатки и был слеп к их достоинствам. Но это, мне думается, не так. Нет ничего прекраснее, чем доброта, и я часто с удовольствием показывал, как много ее в таких людях, которых следовало бы беспощадно осудить, если подходить к ним с обычной меркой. А показывал я ее потому, что видел. Порою мне казалось, что именно в таких людях она светит ярче среди окружающей ее тьмы греха. Доброту праведных людей я принимаю как должное, в них мне забавно находить недостатки или пороки; но доброта грешников меня трогает, и я всегда готов снисходительно пожать плечами на проявления их греховности. Я не сторож брату моему. Я не могу заставить себя судить своих ближних; хватит с меня того, что я их наблюдаю. И мои наблюдения убедили меня в том, что на поверку между добрыми и злыми нет такой большой разницы, как пытаются нам внушить моралисты.
Я не сужу о человеке по первому впечатлению. Возможно, что умение пристально всматриваться в людей я унаследовал от своих предков; навряд ли они могли бы стать хорошими юристами, если бы не обладали известной остротой ума и позволяли сбить себя с толку обманчивой внешностью. А может быть, мне, в отличие от многих, недоступны вспышки радостных чувств при встрече с каждым новым человеком, от которых глаза застилает розовым туманом. Безусловно, здесь сыграло роль то, что я получил медицинское образование. Я не хотел быть врачом. Я хотел быть только писателем, но был слишком робок, чтобы заявить об этом. К тому же в те времена это было неслыханное дело, чтобы восемнадцатилетний мальчик из хорошей семьи стал профессиональным литератором. Самая эта мысль была так несуразна, что я даже не пробовал с кем-нибудь ею поделиться. Я всегда думал, что пойду по юридической части, но три моих брата, все намного старше меня, уже были юристами, и для меня, так сказать, не осталось места.
XVIII
В школе я проучился недолго. Три безрадостных года я провел в начальной школе в Кентербери, в которую меня отдали после смерти отца, потому что оттуда было всего шесть миль до Уитстебля, где мой дядя и опекун был викарием. Это был филиал старинной Королевской школы, куда я и перешел, когда мне исполнилось тринадцать лет. Выбравшись из младших классов, где учителя были грубые тираны, я вполне примирился со школой и был страшно огорчен, когда из-за болезни мне пришлось провести целый триместр на юге Франции. Моя мать и ее единственная сестра умерли от туберкулеза, поэтому, когда выяснилось, что у меня слабые легкие, дядя с теткой забеспокоились. В Йере мне давал уроки частный преподаватель. Вернувшись в Кентербери, я как-то не нашел себе там места. У моих друзей появились новые друзья. Я оказался один. В мое отсутствие меня перевели в следующий класс, и мне после трехмесячного перерыва было трудно там учиться. Классный наставник придирался ко мне. Я убедил дядю, что для моих легких будет очень полезно, если я, вместо того чтобы оставаться в школе, проведу ближайшую зиму на Ривьере, а после этого мне стоит пожить в Германии – изучить немецкий язык. Тем временем я буду продолжать заниматься предметами, которые нужны для поступления в Кембридж. Дядя был слабовольный человек, а доводы мои казались серьезными. Меня он недолюбливал, за что я его совсем не виню, потому что я, сколько могу судить, не был симпатичным мальчиком; а так как деньги на мое образование тратились мои собственные, он был вполне готов предоставить мне свободу действий. Тетка же горячо сочувствовала моим планам. Она сама была из немецкой семьи, очень бедной, но родовитой; у них имелся замысловатый фамильный герб с щитодержателями, которым она очень гордилась. В другом месте я рассказал, как она, будучи всего лишь женою бедного священника, не пожелала нанести визит жене богача-банкира, снявшего на лето дом по соседству, – а все потому, что он занимался коммерцией. Она-то и устроила меня в семейный пансион в Гейдельберге, о котором слышала от своих мюнхенских родичей.
Но когда я восемнадцати лет возвратился из Германии, у меня уже сложились весьма определенные взгляды касательно моего будущего. За границей мне жилось лучше, чем когда-либо раньше. Впервые я отведал свободы, и самая мысль о Кембридже, где пришлось бы снова ее лишиться, была для меня невыносима. Я чувствовал себя взрослым, и мне не терпелось вступить в жизнь. Я чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Дядя мой лелеял надежду, что я стану священником, хотя ему следовало бы понять, что, поскольку я заикался, это была самая неподходящая для меня профессия; но когда я сказал ему, что не хочу поступать в Кембридж, он принял это со своим обычным равнодушием. Я еще помню, какие глупейшие разговоры велись по поводу моего будущего. Так, кто-то подал мысль, что мне следует поступить на государственную службу, и дядя в письме к своему старому приятелю по Оксфорду, занимавшему важный пост в министерстве внутренних дел, спросил его совета на этот счет. Приятель ответил, что теперь, когда введена система экзаменов и соответственно расширилась категория лиц, попадающих на государственную службу, это неподходящее поприще для джентльмена. Вопрос отпал. В конце концов было решено, что я стану врачом.
Медицина меня не интересовала, но она давала мне возможность жить в Лондоне, окунуться в настоящую жизнь, о чем я так мечтал. Осенью 1892 года я поступил в медицинскую школу при больнице св. Фомы. Первые два курса показались мне скучными, и я уделял занятиям ровно столько внимания, сколько требовалось, чтобы кое-как сдавать экзамены. Я был очень неважным студентом. Но свободу я себе отвоевал. Мне нравилось, что у меня своя комната, где я могу быть один; я старался обставить ее красиво и уютно. Все свободное время, а также большую часть времени, которое мне следовало бы посвящать занятиям медициной, я читал и писал. Читал я запоем и исписывал бесконечные тетради сюжетами для рассказов и пьес, отрывками диалогов и рассуждениями, весьма наивными, по поводу прочитанных книг и собственных переживаний. В жизни больницы я почти не участвовал, почти ни с кем из студентов не дружил – я был занят другим. Но на третьем курсе началась работа в амбулатории, и это меня заинтересовало. А потом я стал куратором в стационаре, и тут интерес мой возрос настолько, что, когда я однажды на вскрытии не в меру разложившегося трупа схватил септический тонзиллит и слег, я буквально не мог дождаться дня, когда смогу вернуться к работе. Чтобы получить диплом, я должен был принять известное количество родов, а это означало походы в трущобы Ламбета – подчас в грязные, зловонные дворы, куда не решалась заглядывать полиция, но где мой черный чемоданчик служил надежной защитой; эта работа меня захватила. Одно время я день и ночь работал в «Скорой помощи», что было очень утомительно, однако увлекло меня чрезвычайно.
XIX
Да, здесь было то, что больше всего меня влекло, – жизнь в самом неприкрашенном виде. За эти три года я, вероятно, был свидетелем всех эмоций, на какие способен человек. Это разжигало мой инстинкт драматурга, волновало во мне писателя. Еще сейчас, спустя сорок лет, я помню некоторых людей так отчетливо, что мог бы нарисовать их портрет. Фразы, услышанные в то время, до сих пор звучат у меня в ушах. Я видел, как люди умирали. Видел, как они переносили боль. Видел, как выглядит надежда, страх, облегчение, видел черные тени, какие кладет на лица отчаяние; видел мужество и стойкость. Я видел, как вера сияла в глазах людей, уповавших на то, что сам я считал лишь иллюзией, и видел, как человек встречал свой смертный приговор иронической шуткой, потому что из гордости не мог допустить, чтобы окружающие увидели ужас, охвативший его душу.
В то время (а это было время, когда многие жили, не зная нужды, когда мир казался прочным и безопасность – обеспеченной) имелась группа писателей, воспевавших моральную ценность страдания. Они утверждали, что страдание целительно. Что оно усиливает сочувствие и обостряет впечатлительность. Что оно открывает новые просторы для духа и дает ему соприкоснуться с мистическим царством божиим. Что оно укрепляет характер, очищает его от грубости и тому, кто не бежит страдания, а ищет его, приносит более совершенное счастье. Несколько книг на эту тему имели большой успех, и авторы их, жившие в комфортабельных домах, сытно питавшиеся три раза в день и пребывавшие в завидном здоровье, пользовались широкой известностью. В своих тетрадях я не раз и не два, а десятки раз записывал факты, которые видел своими глазами. Я знал, что страдание не облагораживает: оно портит человека. Под действием его люди становятся себялюбивыми, подленькими, мелочными, подозрительными. Они дают поглотить себя пустякам. Они приближаются не к богу, а к зверю. И я со злостью писал, что резиньяции мы учимся не на своих страданиях, а на чужих.
Все это было для меня ценнейшим опытом. Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача. Вероятно, и в конторе адвоката можно немало узнать о человеческой природе; но там, как правило, имеешь дело с людьми вполне владеющими собой. Лгут они, возможно, столько же, сколько лгут врачу, но более последовательно, и адвокату, может быть, не так необходимо знать правду. К тому же он обычно занимается материальными вопросами. Он видит человеческую природу со специфической точки зрения. Врач же, особенно больничный врач, видит ее без всяких покровов. Скрытность обычно удается сломить; очень часто ее и не бывает. Страх в большинстве случаев разбивает все защитные барьеры; даже тщеславие перед ним пасует. Почти все люди обожают говорить о себе, и мешает им только то обстоятельство, что другие не хотят их слушать. Сдержанность – искусственное качество, которое развивается у большинства из нас лишь в результате несчастных осечек. Врач умеет хранить тайны. Его дело – слушать, и нет тех подробностей, которые были бы слишком интимны для его ушей.
Но, разумеется, может быть и так, что человеческая природа перед вами как на ладони, а вы не имеете глаз, чтобы видеть, и ничего не узнаете. Если вы скованы предрассудками, если вы человек сентиментального склада, то, сколько бы вы ни ходили по больничным палатам, опыт ваш от этого не обогатится. Чтобы такая затея удалась, нужен непредубежденный ум и большой интерес к людям. Я считаю, что мне очень повезло: хотя я никогда особенно не любил людей, они меня так интересуют, что, кажется, неспособны мне надоесть. Я не большой любитель говорить и всегда готов слушать. Мне все равно, интересуются мною другие или нет. Я не жажду делиться с людьми своими знаниями и не чувствую потребности поправлять их, если они ошибаются. Скучные люди могут быть очень занимательны, если умеешь держать себя в руках. Помню, как за границей одна добрейшая дама повезла меня кататься – смотреть окрестности. Разговор ее состоял из одних трюизмов, и она употребляла избитые фразы в таком количестве, что я отчаялся их запомнить. Но одно ее замечание засело у меня в памяти, как бывает с исключительно удачными остротами. Мы проезжали мимо домиков, выстроившихся в ряд на берегу моря, и она сказала: «Это – бунгало для воскресного отдыха, вы понимаете… другими словами, это бунгало, куда приезжают отдыхать на воскресенье». Не услышать этого было бы для меня большой потерей.
У меня нет желания проводить слишком много времени со скучными людьми, но и с занятными людьми тоже. Светское общение меня утомляет. Очень многие находят в беседе и развлечение, и отдых. Мне она всегда стоит усилий. В молодости, когда я заикался, долгий разговор меня просто выматывал, и даже теперь, хотя я в большой мере излечился, это для меня трудное дело. Я испытываю облегчение, когда могу уйти куда-нибудь и спокойно почитать.
XX
Я отнюдь не имею в виду, что за годы, проведенные в больнице св. Фомы, до конца постиг человеческую природу. Едва ли кто может на это претендовать. Я изучал ее, сознательно и бессознательно, в течение сорока лет, но и сейчас люди для меня – загадка. Даже близко знакомый мне человек может удивить меня поступком, на который я не считал его способным, или проявлением такой черты характера, какой я в нем и не подозревал. Возможно, что представление о людях у меня сложилось несколько однобокое, поскольку в больнице св. Фомы я соприкасался главным образом с людьми больными, бедными и необразованными. Я по мере сил остерегался этого. Остерегался по мере сил и собственной предвзятости. У меня нет врожденной веры в людей. Я склонен ожидать от них скорее дурного, чем хорошего. Это – цена, которую приходится платить за чувство юмора. Обладая чувством юмора, находишь удовольствие в капризах человеческой природы; не слишком доверяешь благородным декларациям, всегда доискиваясь недостойных мотивов, которые за ними скрываются; несоответствие между видимостью и действительностью развлекает, и там, где не удается его найти, подмывает его создать. Порою закрываешь глаза на истину, добро и красоту, потому что они дают мало пищи чувству смешного. Юморист незамедлительно приметит шарлатана, но не всегда распознает святого. Но если односторонний взгляд на людей – дорогая плата за чувство юмора, зато в нем есть и ценная сторона. Когда смеешься над людьми, на них не сердишься. Юмор учит терпимости, и юморист – когда с улыбкой, а когда и со вздохом – скорей пожмет плечами, чем осудит. Он не читает морали, ему достаточно понять; а ведь недаром сказано, что понять – значит пожалеть и простить.
Однако с этими оговорками, о которых я стараюсь не забывать, я утверждаю, что опыт всей последующей жизни только подтвердил наблюдения над человеческой природой, которые я – по молодости лет еще бессознательно – делал в амбулаториях и палатах больницы св. Фомы. Я вижу людей так же, как видел тогда, и такими их рисую. Может быть, изображение получается неправильное; многие, я знаю, находят его неприятным. Разумеется, оно предвзято, поскольку я, естественно, смотрю на людей сквозь призму собственного характера. Экспансивный, здоровый, чувствительный оптимист увидел бы тех же людей совсем по-другому. Я могу только сказать, что видел их отчетливо. Многие писатели, как мне кажется, совсем не наблюдают, а персонажей своих создают стандартных размеров и по образцам, которые сами же выдумывают. Они – как те рисовальщики, что копируют слепки с античных скульптур и никогда не пытаются рисовать живую натуру. В лучшем случае они могут придать видимость жизни порождениям собственного ума. Если ум у них возвышенный, им порой удается создать возвышенные образы, и тогда, пожалуй, не так уж важно, что в этих образах не отражена бесконечная сложность повседневной жизни.
Я всегда писал с живой натуры. Помню, как однажды на занятиях по анатомии руководитель спросил меня название какого-то нерва, и я не мог ответить. Он мне сказал; я стал спорить, потому что нерв находился не там, где ему полагалось. Он же настаивал, что это тот самый нерв, который я тщетно искал. Я возмутился такой ненормальностью, на что он с улыбкой заметил, что в анатомии необычна скорее норма. В то время это меня только разозлило, но слова его запали мне в память, а позднее я пришел к выводу, что их можно отнести не только к анатомии, но и к человеку вообще. Норма – это то, что встречается лишь изредка. Норма – это идеал. Это портрет, который складывают из характерных черточек отдельных людей, а ведь трудно ожидать, что все эти черты могут соединиться в одном человеке. Вот такие-то фальшивые портреты и берут за образец писатели, о которых я говорил, и оттого, что они берут явления столь исключительные, они редко добиваются впечатления правды. Эгоизм и добросердечность, высокие порывы и чувственность, тщеславие, робость, бескорыстие, мужество, лень, нервность, упрямство, неуверенность в себе – все это уживается в одном человеке, не создавая особой дисгармонии. Понадобилось немало времени, чтобы убедить в этом читателя.
Не думаю, чтобы в прошедшие века люди отличались от нынешних, но своим современникам они, по всей вероятности, казались более цельными, иначе писатели не стали бы изображать их такими. «Всяк в своем нраве» – это казалось вполне естественным. Скупец был только скуп, щеголь – щеголеват, обжора – обжорлив. Никому не приходило в голову, что скупец может быть щеголеват и обжорлив, – а между тем мы сплошь и рядом встречаем таких людей, – и уж подавно, что он может быть честным человеком, бескорыстно служить обществу и искренне увлекаться искусством. Когда писатели начали изображать пестроту, которую они обнаруживали в самих себе или в других, их обвинили в клевете на человечество. Насколько я знаю, первым, кто сознательно пошел на это, был Стендаль. Роман «Красное и черное» был встречен современной критикой в штыки. Даже Сент-Бёв отнесся к нему весьма строго, хотя ему достаточно было заглянуть в собственное сердце, чтобы увидеть, сколь противоречивые свойства уживаются в человеке. Жюльен Сорель – один из самых интересных характеров во всей литературе. На мой взгляд, Стендалю не удалось сделать его вполне правдоподобным, но это, вероятно, вызвано причинами, о которых речь пойдет в своем месте. На протяжении первых трех четвертей романа он вполне достоверен. Иногда он внушает отвращение, иногда сочувствие; но во всем этом есть внутренняя связность, так что, даже содрогаясь, приемлешь.