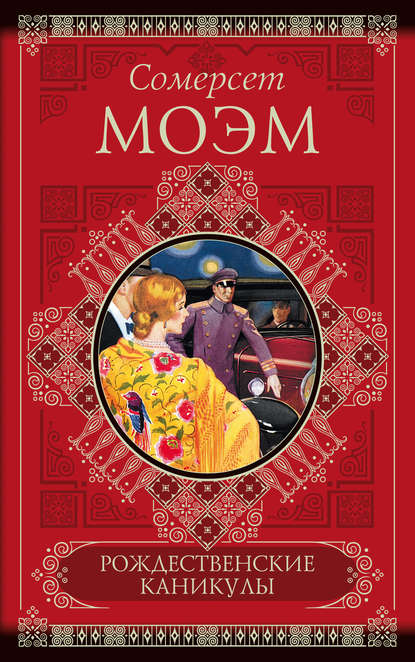По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рождественские каникулы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я такой же акционер, как и все вы, но что до меня, если ты хочешь, чтобы сын занял твое место, пускай займет. Все это, разумеется, еще не скоро, к тому времени я уже могу умереть.
– В нашей семье живут долго, ты проживешь не меньше Сайберта. Во всяком случае, будет неплохо, если ты дашь понять остальным, что это дело решенное: когда я отойду от дел, мое место займет мой сын.
Чтобы расширить кругозор детей, супруги Мейсоны проводили каникулы за границей – зимой там, где можно кататься на лыжах, а летом на морских курортах на юге Франции; и раза два они с той же похвальной целью совершали путешествия в Италию и в Голландию. Когда Чарли окончил школу, отец решил, что, прежде чем поступать в Кембридж, мальчику полезно пожить полгода в Туре, изучить французский. Но его пребывание в этом славном городе обернулось совершенно неожиданно и могло бы привести к катастрофе, – ибо, вернувшись, он объявил, что желает ехать не в Кембридж, а в Париж, хочет стать художником. Родители были ошеломлены. Они любили искусство, часто говорили, что оно занимает весьма важное место в их жизни; Лесли, временами не чуждый философических размышлений, склонен был думать, что только искусство придает смысл человеческому существованию, и с величайшим уважением относился к его творцам; но никогда он не мог себе представить, что кто-либо из его семьи, а тем более его родной сын, изберет путь столь неопределенный, необычный и в большинстве случаев отнюдь не доходный. Да и Винития не могла забыть судьбу своего отца. Было бы несправедливо сказать, что оттого, как серьезно, серьезнее, чем им хотелось бы, сын воспринял их увлеченность искусством, родители растерялись; они и вправду были серьезно увлечены, но как покровители, меценаты; хоть и приверженные богеме, они владели акциями Компании Мейсон, а это, как понятно каждому, ставило их совсем в другое положение. К словам Чарли они отнеслись вполне недвусмысленно, но сознавали, нелегко будет выразить это так, чтобы сын не счел их неискренними.
– Не понимаю, с чего ему это взбрело в голову, – сказал Лесли, обсуждая новость с женой.
– Я думаю, он это унаследовал. Все-таки мой отец был художник.
– Он занимался живописью, дорогая. Он был истинный джентльмен и поразительный рассказчик, но ни один разумный человек не назвал бы его художником.
Винития вспыхнула, и Лесли почувствовал, что обидел ее. И поспешил исправить свою оплошность.
– Если он унаследовал призвание к искусству, то куда скорей от моей бабки. Помню, старик Сайберт говаривал: тот не знает вкуса рубца с луком, кто не отведал бабкиной стряпни. Когда она ушла из кухарок и стала женой садовника, мир потерял замечательную мастерицу своего дела.
Винития прыснула и простила его.
Слишком хорошо они друг друга знали, им не требовалось обсуждать возникающие недоразумения. Дети любили их и смотрели на них снизу вверх; и супруги согласились, что было бы безмерно жаль каким-нибудь неверным шагом поколебать веру Чарли в мудрость и честность родителей. Молодые нетерпимы, скажи им то, что диктует здравый смысл, они тут же сочтут тебя старым обманщиком.
– По-моему, не стоит запрещать ему это слишком решительно, – сказала Винития. – Он только заупрямится.
– Тут поначалу требуется осмотрительность. Не спорю.
Положение осложнялось еще тем, что Чарли привез из Тура несколько полотен и, когда показал их, родители отозвались о них в таких выражениях, которые теперь было бы трудно взять обратно. Они хвалили его работы не как знатоки, а как любящие родители.
– Может быть, тебе стоило бы как-нибудь утром позвать Чарли в кладовку, и пускай посмотрит полотна твоего отца. Ничего не навязывай, лучше, чтоб это получилось будто невзначай. А я при случае с ним поговорю.
Случай представился. Лесли сидел в малой гостиной, которую они отвели детям, чтобы те свободно ею располагали. На стенах красовались репродукции Гогена и Ван Гога, которые прежде украшали детскую. Чарли писал пестрый букет в зеленой вазе.
– По-моему, лучше вставить в рамы картины, что ты привез из Франции, и повесить их вместо этих репродукций. Давай-ка еще разок на них взглянем.
На одной из них были изображены три яблока на белой с синим тарелке.
– По-моему, она очень хороша, – сказал Лесли. – Я видел сотни картин с тремя яблоками на белой с синим тарелке, твоя им не уступит. – Он усмехнулся. – Бедняга Сезанн, интересно, что бы он сказал, знай он, сколько тысяч раз люди писали эту его картину.
Был и еще один натюрморт – бутылка красного вина, пачка французского табака в синей обертке, пара белых перчаток, сложенная газета и скрипка. Все эти предметы лежали на столе, покрытом скатертью в белую и зеленую клетку.
– Очень хорош. Многообещающая работа.
– Ты правда так думаешь, папа?
– Ну конечно. Видишь ли, работа не сказать чтоб оригинальная, у агентов по продаже картин таких на складе десятки, но ведь ты в жизни не взял ни единого урока, и работа поистине делает тебе честь. Ты, видно, отчасти унаследовал талант дедушки. Ты его картины видел, нет?!
– Я много лет их не видел. А тут мама что-то искала в кладовке и показала их мне. Страх и ужас.
– По-моему, тоже. Но в его время их воспринимали иначе. Их вовсю расхваливали и покупали. Вот и множество вещей, которыми мы сейчас восхищаемся, через пятьдесят лет будут казаться ужасными. Это самое страшное в искусстве – в нем нет места посредственности.
– Но ведь пока не попробуешь, не поймешь, кто ты.
– Разумеется, и если ты хочешь профессионально заняться живописью, кому-кому, а уж не нам с матерью становиться тебе поперек дороги. Сам знаешь, как много для нас значит искусство.
– Мне больше всего на свете хотелось бы заниматься живописью.
– Если жить скромно, при той доле Компании Мейсон, которая тебе отойдет, тебе всегда хватит. И я знаю любителей, которые создали себе вполне милое и негромкое имя.
– Но я вовсе не желаю быть любителем.
– Но с твоей тысячей-полутора в год вряд ли можно достичь большего. Не скрою, я буду несколько разочарован. Я держал для тебя место секретаря Компании, но кое-кто из твоих кузенов с радостью за него ухватится. Я-то полагал, что лучше быть умелым и знающим дельцом, чем посредственным художником, но это так, к слову. Главное, чтоб ты был счастлив, и нам остается только надеяться, что из тебя выйдет лучший художник, чем из твоего деда.
Они помолчали. Добрый взгляд Лесли был устремлен на сына.
– Только об одном я хотел бы тебя попросить. Мой дед поначалу был садовником, а его жена кухаркой. Я его едва помню, но, сдается мне, он был человек достойный, но грубоватый, неотесанный. Говорят, джентльменом можно стать лишь в третьем поколении, и во всяком случае я не ем горошек с ножа. Ты – четвертое поколение. Можешь считать меня снобом, но не улыбается мне мысль, что ты спустишься по общественной лестнице. Я бы хотел, чтобы ты поступил в Кембридж, получил степень, а потом, если захочешь поехать в Париж изучать живопись, езжай с Богом.
Предложение отца показалось Чарли поистине великодушным, и он с благодарностью его принял. В Кембридже он наслаждался вовсю. Ему не часто выпадал случай заняться живописью, но он вошел в круг людей, увлекающихся театром, и на первом курсе написал несколько одноактных пьес. Их поставили в Любительском театральном клубе, и Мейсоны-родители приехали в Кембридж их посмотреть. Потом Чарли свел знакомство с одним преподавателем, выдающимся музыкантом. Чарли играл на фортепьяно лучше большинства студентов, и они вместе исполняли дуэты. Он изучал гармонию и контрапункт. Поразмыслив, он решил, что лучше ему стать не художником, а музыкантом. Лесли Мейсон весьма добродушно на это согласился, но когда Чарли получил степень, отец на две недели повез его в Норвегию поудить рыбу. Дня за три до их возвращения Винития получила от мужа телеграмму, состоящую из одного-единственного слова – «Эврика». При всей их образованности ни он, ни она не знали, что это значит, но смысл его получательнице был совершенно ясен, а ведь для того и служат слова. Она вздохнула с облегчением. В сентябре Чарли на четыре месяца поступил в бухгалтерскую фирму, услугами которой пользовалась Компания Мейсон, стал учиться основам делопроизводства и в новом году присоединился к отцу.
Чтобы поощрить усердие, с каким сын работал первый год в Компании, Лесли и посылал его теперь в Париж порезвиться, снабдив двадцатью пятью фунтами. И уж Чарли намерен был порезвиться вовсю.
2
Они уже почти приехали. Служители подносили багаж поближе к выходу, чтобы удобней было передать его носильщикам. Дамы делали последний мазок губной помадой, и им подавали меховые манто. Мужчины влезали в зимние пальто, нахлобучивали шапки. Близость, в которой все они просидели несколько часов, приятное тепло комфортабельного купе превратили их в некое содружество, отделило пассажиров пульмановского вагона с его особым номером от пассажиров всех остальных вагонов; но теперь общность распалась, и каждый человек или каждые двое-трое вновь обрели свое особое лицо, которое на время слилось со всеми остальными. В дымном воздухе, сдобренном запахом застоявшегося табака, резких духов, человеческого тела, в духоте парового отопления каждый вдруг напустил на себя некую загадочность. Вновь чужие, они смотрели друг на друга озабоченными невидящими глазами. Каждый ощущал смутную враждебность к соседу. Кое-кто уже выстраивался в очередь в коридоре, желая побыстрей выйти. От тепла в вагоне окна запотели, Чарли протер небольшой просвет и глянул за окно. Ничего он не увидел.
Поезд вкатил под своды вокзала. Чарли отдал саквояж носильщику и большими шагами зашагал по перрону; он надеялся, что его встретит его друг Саймон Фенимор. И огорчился, не увидев его у вагона; но у контрольного барьера толпился народ, и Чарли подумал, что Саймон ждет его там. Нетерпеливо, испытующе оглядел оживленные нетерпеливым ожиданием лица; прошел сквозь толпу; встречающие протягивали руки прибывшим; целовались женщины; его друга не было. Чарли так был уверен, что тот здесь, даже чуть замешкался, но носильщик явно спешил, и Чарли последовал за ним во двор. Он был несколько обескуражен. Носильщик взял ему такси, и Чарли назвал шоферу гостиницу, в которой Саймон заказал для него номер. Приезжая в Париж, Мейсоны всегда останавливались в гостинице на рю Сент-Оноре. Ее постояльцами были исключительно американцы и англичане, но через двадцать лет Мейсоны все тешили себя иллюзией, будто это они ее отыскали, настоящую французскую гостиницу, и когда видели на лестничной площадке американский багаж или поднимались в лифте с людьми, которые могли быть только англичанами, они не переставали удивляться.
– Интересно, их-то как сюда занесло? – говорили Мейсоны.
Сами они были осмотрительны, никогда не называли эту гостиницу своим друзьям; они набрели на уголок старой Франции и не собирались рисковать, не желали, чтоб его испортили. Хотя директор и портье свободно говорили по-английски, Мейсоны объяснялись с ними на своем прихрамывающем французском, уверенные, что только французский те и знают. Но, отправляясь в Париж один, Чарли решил не останавливаться в этой гостинице уже хотя бы потому, что столько раз бывал в ней со всем семейством. Он ехал в поисках приключений, и почтенная семейная гостиница, где, по словам родителей, останавливались одни лишь французские аристократы из провинции, вряд ли подходила для восхитительных, необузданных и романтических похождений, что проносились в его воображении последний месяц. Вот он и написал Саймону и попросил найти ему комнату где-нибудь в Латинском квартале; что касается удобств, он был непривередлив и о чистоте не очень беспокоился, была бы там подходящая атмосфера; и в должный срок Саймон написал ему, что заказал номер в гостинице близ вокзала Монпарнас. Она была расположена на тихой улочке чуть в стороне от рю де Ренн и в удобной близости от улицы Кампань премьер, где жил он сам.
Чарли быстро справился с разочарованием от того, что Саймон его не встретил, – он не сомневался, что тот либо ждет его в гостинице, либо звонил, что будет с минуты на минуту, – и, пока ехал по людным улицам, ведущим от Gare du Nord к Сене, настроение у него улучшилось. Приехать в Париж вечером – это же замечательно. Моросит дождик, и улицы кажутся волнующе таинственными. Магазины ярко освещены. По тротуарам движется великое множество зонтов, с них капает вода, поблескивает в свете фонарей. Чарли вспомнилась одна из картин Ренуара. Время от времени налетает порыв ветра, и женщины съеживаются под зонтами, юбки закручиваются вокруг ног. По благоразумным английским представлениям такси мчится с неистовой скоростью, и всякий раз, как, стараясь избежать столкновения, шофер вдруг нажимает на тормоза, у Чарли перехватывает дыхание. Красный свет задержал их на перекрестке, и в обе стороны хлынул поток людей, будто перепуганные толпы, убегающие от теснящей их полиции. Взволнованному взгляду Чарли они казались совсем не похожими на английских пешеходов – живее, нетерпеливей; когда взгляд его случайно упал на девушку, которая шла сама по себе, швею ли, машинистку, возвращавшуюся со службы, он с удовольствием представил, что она спешит на свидание с любовником; а когда увидел парочку, идущую под руку под одним зонтом, – бородатого молодого человека в широкополой шляпе и девушку с мехом вокруг шеи, идущих так, словно быть вместе такое блаженство, что и дождь им нипочем, и толчею они не замечают, – его пронизала острая радость сопереживания. На одном углу из-за пробки его такси оказалось бок о бок с роскошным лимузином. В нем сидела женщина в собольем манто, нарумяненная, губы накрашены, профиль безупречнейший. Она вполне могла быть герцогиней Германт, что возвращается со званого чаепития к себе домой на бульвар Сен-Жермен. Замечательно, что ему двадцать три и он самостоятельно в Париже.
– Ох и проведу же я времечко!
Гостиница оказалась шикарней, чем он ожидал. Ее пышный фасад наводил на мысль об изысканном вкусе покойного барона Хаусмана. Оказалось, комната для него заказана, но ни письма Саймон ему не оставил, ни на словах ничего не передал. И наверх его провел не плохо выбритый мрачноватый тип в стоптанных башмаках и грязном фартуке, но любезный администратор в визитке, прекрасно говорящий по-английски. Просто обставленная комната отличалась чистотой, и в ней было две кровати, но администратор заверил Чарли, что будет брать с него только за одну. И с гордостью показал ему прилегающую к номеру ванную комнату. Когда тот ушел, Чарли огляделся. Он ожидал, что комната будет небольшая, с тяжелыми блеклыми репсовыми гардинами, с деревянной кроватью, большущим пуховым стеганым одеялом и со старым зеркальным шкафом красного дерева; он ожидал найти на туалетном столике чьи-то шпильки, а в ящике тумбочки у кровати наполовину использованный тюбик губной помады и расческу со сломанными зубьями и застрявшими в ней крашеными волосками. Такой рисовалась в его романтическом воображении студенческая комната в Латинском квартале. Ванная! Вот уж чего он никак не ожидал. Такая комната могла быть в одной из тех недорогих гостиниц в Швейцарии, где он бывал с родителями. Чистая, давно не ремонтированная и убогая. Даже при своем пылком воображении Чарли не находил в ней ничего таинственного. Уныло распаковал он свой саквояж. Принял ванну. И подумал, ну что за необязательность, ведь даже если Саймон не побеспокоился его встретить, мог бы оставить записку. Если он так и не подаст признаков жизни, придется обедать в одиночестве. Отец, мать и Пэтси уже, наверно, приехали в Годэлминг; там будет весело, соберутся два сына сэра Уилфрида с женами и две племянницы леди Терри-Мейсон. Будет музыка, игры, танцы. Чарли даже пожалел было, что ухватился за предложение отца провести каникулы в Париже. Вдруг ему подумалось, что Саймону, возможно, неожиданно пришлось поехать по делам газеты и в спешке он забыл его известить. Вот незадача…
Саймон Фенимор был самым давним другом Чарли, и чтобы провести с ним несколько дней, Чарли так рвался в Париж. Они учились в одной частной школе, вместе были и в Рагби, и в Кембридже тоже, но оттуда Саймон ушел не доучившись, даже не закончил второй курс, решил, что зря теряет время; и не кто иной, как отец Чарли, устроил его в одну лондонскую газету, парижским корреспондентом которой он и был этот последний год. Не было у Саймона никого на свете. Отец его служил в Индии в Лесном управлении и, когда Саймон был еще совсем малыш, развелся с его матерью, которая ему изменяла. Она уехала из Индии, а Саймона, которого суд оставил на попечении отца, тот отправил в Англию в семейство некоего священника, где ему предстояло жить до поступления в школу. Мать как сквозь землю провалилась. Саймон не знал, жива она или умерла. Отец умер от цирроза печени, когда мальчику было двенадцать, и он лишь смутно помнил молчаливого, сухощавого, хрупкого человека с болезненным, морщинистым лицом. Оставленных им денег только и хватило, что на образование сына. Одиночество мальчика тронуло чету Мейсон, и они взяли за правило приглашать его чуть не на каждые каникулы. Мальчишкой он был долговязый, тощий, черные глаза на бледном лице казались огромными, копна прямых темных волос вечно нечесана, рот большой, чувственный. Он был разговорчив, не по годам развит, начитан и умен. У него и в помине не было застенчивости, что так привлекала в Чарли. Винития Мейсон не могла его полюбить, хотя по чувству долга и старалась изо всех сил. Она никак не могла взять в толк, почему сын привязался к Саймону, который так на него не похож. Ведь этот Саймон такой самодовольный, он нечувствителен к доброте, и что для него ни делаешь, принимает это как само собой разумеющееся. Похоже, он не очень-то высокого мнения и о ней и о Лесли. Иной раз, когда Лесли толково, с присущим ему здравым смыслом говорил о чем-то интересном, в больших черных глазах Саймона, обращенных к нему, мелькала насмешка, а чувственные губы язвительно морщились. Можно было подумать, будто Лесли скучен и туповат. Время от времени, в какой-нибудь из их милых мирных вечеров, когда все были дома и болтали о том о сем, Саймон впадал в мрачное раздумье – сидел, уставясь в пустоту, словно мысли его далеко отсюда, и случалось, чуть погодя брал какую-нибудь книгу и принимался читать, как если бы никого тут кроме него не было. Будто беседу их и слушать не стоит. Это было просто даже невежливо. Но Винития Мейсон укоряла себя.
– Бедный малыш, где ж ему было научиться хорошим манерам. Я непременно буду очень хорошо с ним обходиться. Непременно его полюблю.
Ее взгляд покоился на Чарли – такой он красивый, тоненький («а как быстро он из всего вырастает, рукава смокинга уже коротки»), каштановые волосы вьются, глаза синие, длинные ресницы и такая чистая кожа. Хоть он, быть может, и не блистает, как Саймон, но он способный и до кончиков пальцев артистичен. Но как знать, каким бы он стал, если бы она сбежала от Лесли и Лесли стал бы пить, и вместо того, чтобы наслаждаться утонченной атмосферой славного дома, ощущать ее благотворное влияние, он, как Саймон, вынужден был бы заботиться о себе сам? Бедняжка Саймон! На другой день она пошла и купила ему полдюжины галстуков. Он, кажется, обрадовался.
– До чего мило с вашей стороны. У меня в жизни не было больше двух галстуков сразу.
Винития так была растрогана собственной неожиданной щедростью, ее даже обдало волной сочувствия.
– Какой же ты одинокий, бедняжка! – воскликнула она. – Так ужасно, что у тебя нет родителей.
– Ну, поскольку моя мать была шлюха, а отец пьяница, смею сказать, я не очень по ним тоскую.
В семнадцать лет это было сказано.