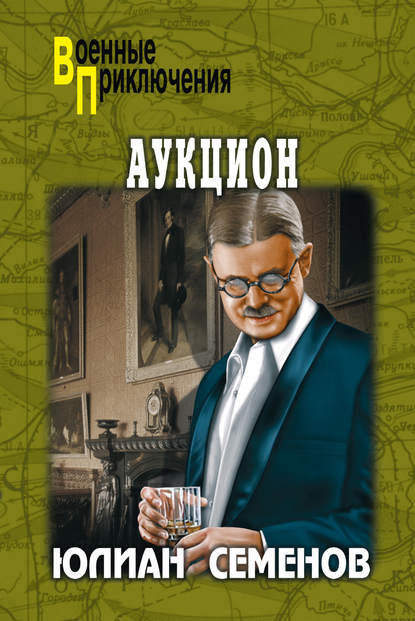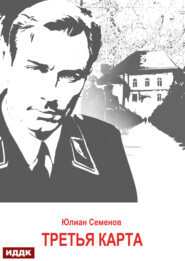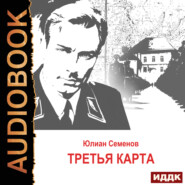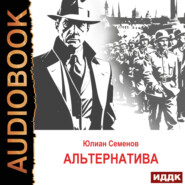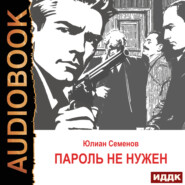По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аукцион
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1985
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только что видел Врубеля. Вид его ужасен, глаза запали, обычно тщательный, даже несколько экстравагантный в одежде, он был одет небрежно, руки его тряслись. “Что с Вами?” – спросил я. Он посмотрел на меня недоумевающе: “Разве вы не знаете, что Александр Антонович покончил с собою?!”
Я сразу же представил себе маленького, кроткого, добрейшего Александра Антоновича Рицциони, его прелестное ателье в Риме и наши совместные чаепития. Его постоянная опека над Врубелем, когда тот работал там в начале девяностых, да и позже, приехав к старику со своей очаровательной женою, была истинно отеческой. О, как же он умел опекать, требовательно, но в то же время добро, как тактичен был в своих советах и наставлениях, как застенчив, когда его просили показать новые работы, а ведь мудрый Третьяков в свою коллекцию приобрел чуть ли не самым первым именно его полотно “Евреи-контрабандисты”. Это ли не оценка труда художника?!
“А что же случилось? – спросил я. – Долги? Или семейная трагедия?”
Врубель по-прежнему недоумевающе посмотрел на меня: “Да разве вы не читали «Мир искусств»? Его там назвали самым худшим изо всех современных художников! Разве не читали вы, как черным по белому было напечатано, что обществу надо как можно скорее избавиться ото всех работ Рицциони, которые позорят нашу живопись?!” – “«И он из-за этого покончил с собою?! Вам достается не меньше, милый Михаил Александрович!” – “Так ведь я моложе, – ответил Врубель, – кто знает, что станется со мною, доживи я до шестидесяти шести, как Рицциони…”
Мы стояли на улице, ветер был промозглым. Врубель предложил пойти к “Давыдке”, на Владимирский проспект, я согласился с радостью, ибо время, проведенное с гением, обогащает тебя куда больше, чем сделка на бирже.
Врубель попросил шампанского вина, от еды отказался, я, однако, умолил его взять белой икорки, только-только пришла из Астрахани. Мы долго сидели в молчании, потом он поднял бокал, сказав: “Мир его праху и добрая ему память в наших сердцах. Какой был твердый хозяин своей жизни, какой честный труженик. А как пристрастно истолковал эту его честность “Мир искусств”! Безжалостно, бесшабашно, без боли за судьбу нашего искусства! Господи, в чьих же руках суд над нами, художниками?! Кто только не дерзал на нас! Чьи только грязные руки не касались самых тонких струн чистого творчества?! А разве эта вакханалия недоброжелательства не путает реальные представления в нашей среде? Надо всегда помнить, что труд скромного мастера несравненно почтеннее, чем претензии добровольных невропатов, лизоблюдничающих на пиру искусства. В ту пору, когда “неумытые” звали меня “Юпитером декадентов”, полагая в своей темной наивности, что это страшное зло, Александр Антонович так был добр ко мне, так трогателен… Утешитель и друг с лучистыми глазами младенца. Когда же мы убедимся, что только труд и умелость дают человеку цену? Почему ополчились против этой истины?!”
Он выпил, отставил бокал, посмотрел на меня своими прекрасными глазами и заплакал.
Такой гордый, самолюбивый, сдержанный человек сидел и плакал, беззвучно, неподвижно, только слезы катились по небритым щекам и странно дергались губы, словно бы он приказывал себе перестать, но сердце, неподвластное слову, не слушалось приказа…
Господи Боже ты мой, как же трудна жизнь артиста, как раним он, и как умеют этим пользоваться многочисленные Сальери.
Два года двадцатого века отмечены на всемирном календаре, а нравы наши по-прежнему подобны дикарским, пещерным.
Поклон нижайший Вашему семейству.
Искренне Ваш
Василий Скорятин».
4
Свое шестидесятипятилетие князь Евгений Иванович Ростопчин отметил в одиночестве, никого не звал. Накануне он слетал в Париж, отстоял службу в православной церкви на рю Дарю, оттуда отправился в Ниццу, взял на аэродроме в прокат маленький «Фиат» (терпеть не мог показного шика, экономил в мелочах, чтобы главные средства вкладывать в дело, а проценты – в приобретение русских книг, картин, икон, архивов) и отправился на кладбище – совсем небольшое, на окраине города. Здесь были похоронены русские, никого другого, только русские – Горчаковы, Ростопчины, Вяземские, Епанчины, Пущины, Раевские, Беннигсены, Кутузовы, Романовы…
Смотритель кладбища, запойный серб Петя, как всегда в этот день, приготовил огромные букеты роз: белые – для бабушки, красные – мамочке; это их любимые цвета. Память о людях как бы продолжает их жизнь среди нас, создавая иллюзию постоянного соприсутствия, непрерываемого бытия…
Евгений Иванович долго сидел возле скромных памятников; потом прошел по маленьким, узеньким аллеям, остановился возле свежей могилы, спросил Петю, кто почил, отчего нет креста. Тот ответил, что преставилась Аграфена Васильевна Нессельроде. Жила в жестокой нужде, голодала, старенькая; на крест собирают, но пожертвование дают очень скупо, по пять – десять франков, откуда ж денег взять. Старики вымерли, молодые по-русски не говорят, растворились, стыдятся предков, норовят фамилию поменять, а уж имен православных и вовсе не осталось, где был Миша, там ныне Мишель, где Петя – Пьер; да хотя б Марье в Мари переделаться, так ведь нет, в Магдалены норовят, только б от своего корня подальше.
Евгений Иванович дал Петечке денег, тот пошел в лавку купить сыра, хлеба, зелени, бутылку красного вина из Сен-Поль-де-Ванса. Князь вообще-то не пил, а если пригубливал, то лишь «вансовку», ее так и Бунин называл, Иван Алексеевич, и Шаляпин, когда наведывался на юг, и даже Мережковский, хотя сурового был норова человек и более всего на свете любил изъясняться по-французски; даже русскую историю комментировал на чужом языке, так, считал он, точнее ее чувствуешь, науке угодна отстраненность.
Однажды кто-то из здешних стариков заметил, что Северную Америку интереснее всех понял француз Бомарше; китайскую культуру открыл итальянец Марко Поло, он же описал ее, сделав фактом мировой истории; Бисмарк лучше всех иных ощущал Россию, а именно русские смогли синтезировать дух Европы, выраженный английской экономией, немецкой философией и французской революцией.
…Ростопчин вернулся к родным могилам. Место между могилой мамочки и князя Горчакова было пустым – он купил эту землю для себя, девять лет назад, когда сын Женя женился на певице из Мадрида. Он уехал с нею в Аргентину, изменил фамилию, став Эухенио Ростоу-Масаль (сократил наполовину отцовскую фамилию и принял девичью фамилию жены), купил пастбища на границе Патагонии. Отцу писал редко, чаще матери. Американка, она бросила Ростопчина, убежав с французским режиссером; была счастлива, пока тот не умер от разрыва сердца; вернулась в Цюрих, позвонила бывшему мужу, предложила мировую. Женя (тогда еще не Эухенио) был в восторге, хоть мать оставила мальчика двадцать лет назад, крошкой, только порою присылала открытки на Рождество. Ростопчин отказал: «Я не прощаю измены». Женя тогда замкнулся, он все эти годы – хоть уж и закончил университет – жил мечтою о семье. Это ведь «шокинг», если за столом нет папы или мамы, – приходится отвечать на вопросы друзей. В том кругу, где он вращался, очень щепетильно относились к тому, чтобы дом был крепостью. Все необходимые приличия соблюдались; пусть папа имеет двух любовниц, а маму обслуживает атлет (пятьдесят долларов в час; конечно, дорого, но необходимо для поддержания жизненного тонуса, гарантирует спокойствие и дружество в семейном очаге), но форма обязана быть абсолютной – на этом держится общество, нельзя замахиваться на святое. Наверное, именно тогда и начался разлад между отцом и сыном. Женя перешел на французский, перестал читать русские книги. По прошествии года Ростопчин, к ужасу своему, услыхал акцент в говоре сына.
– Мальчик, ты не вправе забывать родное слово.
Женя ответил, что его родная речь – французская или английская, на худой конец немецкая или испанская.
– В России я никогда не был, не знаю эту страну и не люблю ее.
– Разве можно не любить родину? – спросил Ростопчин. – Ту землю, где родились твои предки?!
– Моя родина здесь, – ответил Женя, – а большевики выкинули твоих предков и тебя вместе с ними, хороша родина…
Ростопчин заметил, что в случившемся больше вины их, тех, кто правил, чем большевиков:
– Те чувствовали народ, а мы не знали его, жили отдельно, в этом трагедия. Не только большевики, но даже тузы говорили государю, что необходимы реформы, нельзя тасовать колоду знакомцев из придворной бюрократии; конечно, привычные люди охраняют традицию, а какова она была, наша традиция, если говорить честно? Революция случилась через пятьдесят лет после того, как отменили рабство, а править империей продолжали семидесятилетние, они рабству и служили, иному не умели. Надо было привлекать к управлению ответственных людей нового толка, предпринимателей, специалистов производства, а не старых дедов вроде Штюрмера или Горемыкина, которые спали во время заседаний кабинета, тщились сохранить привычное, чурались самого понятия «движение», страшились реформ, а уж про конституцию и слушать не хотели. Пойми, Женя, Россия была единственной страной в Европе, которая жила без конституции, исповедуя теорию общины – то есть не личность, не гражданин, не семья превыше всего, но клан, община, деревня; что хорошо для сотни – то обязательно для каждого! В этом мы повинны перед Россией. Да, горько, да, трагедия эмиграции, но ведь когда мы были в Москве, страна занимала последнее место в Европе, а большевики – хотели мы того или нет – вывели ее на первое, несмотря на все ужасы, трагедии и войны. Нет ничего горше объективности, эмоции всегда угоднее, – душу можно облегчить, поплакав или покричав, но ведь мир подвластен разуму, то есть объективному анализу данностей, а не наоборот. Если наоборот – жди новой трагедии, тогда ужас, крах, апокалипсис.
– Папа, – сказал Женя, – я счастлив, что живу здесь, я не хочу иметь ничего общего с тем, что было у вашей семьи раньше… Мама дала мне душу американца, и я благодарен ей за это. Я живу просто и четко, по тем законам, которыми управляется это общество…
– Двадцать лет ты жил без мамы. Со мною, – заметил Ростопчин. – Когда ты был маленьким, я мыл тебя, одевал, водил в театр, ходил с тобою к парикмахеру, рассказывал сказки…
– Ты упрекаешь меня? – Сын пожал плечами. – По-моему, это принятое отношение к тому, кому дал жизнь. Мама меня никогда и ни в чем не упрекает…
– Не мама воспитывала тебя, а я, Женя.
– Мама родила меня… И я всегда ее помнил. И любил. И ты не вправе требовать от меня, чтобы я вычеркнул ее из сердца. Она – мать.
– Настоящая мать не умеет бросать свое дитя.
– Если ты посмеешь еще раз так сказать о маме, я уйду из твоего дома.
«А на что ты будешь жить? Ты, привыкший к этому замку, и к дворецкому, и к своей гоночной машине, и к полетам на море, и к моей библиотеке, и к утреннему кофе, который тебе приносит в спальню фрау Элиза?»
Но он не задал этого вопроса сыну. Наверное, поэтому и потерял его: безнаказанность – путь к потерям.
Разреши он тогда Жене уйти, тот бы вернулся через месяц, какое там, через неделю; жить в студенческом общежитии, вдвоем с кем-то, не по нему, не вынес бы, научился бы ценить того, кто гарантирует привычные удобства. Но ведь это так жестоко, думал тогда Ростопчин, это и есть то самое, против чего я всегда восстаю, – прагматическая бездуховность, форма дрессуры. Удобно, конечно, никаких эмоций, все по правилам, абсолютное соблюдение приличий, но, Боже, какой холод сокрыт в этом! Какое ледяное, крошечное рацио! Воистину проблемы семьи проецируются на трагедии государств…
С той поры Женя ни разу не произнес ни одного русского слова.
Ростопчин пригласил его съездить в Россию.
– Я помню Москву, – сказал он сыну, – мне тогда было пять лет, но я помню ее отчетливо… Давай полетим туда, все-таки надо увидеть ту страну, откуда родом твой отец.
– Зачем?
– Ну, хотя бы затем, что я тебя прошу об этом.
– Я совершенно забыл твой язык, мне будет там неинтересно, какой смысл?
– Только такой, что я тебя об этом прошу, – повторил князь. – По-моему, я никогда и ничем не унижал тебя, Женя… Я выполняю все твои пожелания, какое там, я угадываю твои желания… Во всяком случае, мне так кажется… Я очень тебя прошу, сын…
Тот вздохнул, пожал плечами, согласился, но поставил условие, чтобы эта поездка состоялась в те месяцы, когда нет ни купального сезона на Средиземноморье, ни лыжного сезона в Альпах.
Они приехали в Москву в ноябре. Моросил дождь, ветер был пронизывающим. Ростопчин попросил шофера, что вез их из Шереметьева (он купил люксовый тур, с автомобилем и двухкомнатным номером в «Национале»), ехать помедленнее. «Невероятно», – то и дело повторял он, когда проезжали Ленинградский проспект и улицу Горького. Нет, это не «потемкинская деревня», это явь, он-то помнил, что здесь была узкая улочка, старенькие дома; они уезжали с Белорусского, каждая деталь врезалась ему в память. Говорят: «Ты был маленький, ты не помнишь», – какая чушь, что может быть точнее детского восприятия мира, тебя окружающего, что может быть рельефнее, истиннее?!
Поздним вечером они вышли гулять по Москве. Возле «Арагви» Женя увидел очередь, спросил отца, что это. Тот объяснил, сын фыркнул:
– Веселая родина у моего отца, такая уж веселая, что даже поужинать толком нельзя, надо мокнуть под дождем – какое варварство!
Ростопчин, однако, надеялся на завтрашний день: Третьяковка, потом Библиотека имени Ленина, вечером – «Годунов». С прогулки они вернулись в отель около двенадцати. Женя попросил ужин, ему ответили, что ресторан уже закрыт.
– Что же мне, принимать снотворное? Я не могу заснуть на голодный желудок.
– Пойдите в валютный бар, – ответили ему, – там сделают сандвич.
Я сразу же представил себе маленького, кроткого, добрейшего Александра Антоновича Рицциони, его прелестное ателье в Риме и наши совместные чаепития. Его постоянная опека над Врубелем, когда тот работал там в начале девяностых, да и позже, приехав к старику со своей очаровательной женою, была истинно отеческой. О, как же он умел опекать, требовательно, но в то же время добро, как тактичен был в своих советах и наставлениях, как застенчив, когда его просили показать новые работы, а ведь мудрый Третьяков в свою коллекцию приобрел чуть ли не самым первым именно его полотно “Евреи-контрабандисты”. Это ли не оценка труда художника?!
“А что же случилось? – спросил я. – Долги? Или семейная трагедия?”
Врубель по-прежнему недоумевающе посмотрел на меня: “Да разве вы не читали «Мир искусств»? Его там назвали самым худшим изо всех современных художников! Разве не читали вы, как черным по белому было напечатано, что обществу надо как можно скорее избавиться ото всех работ Рицциони, которые позорят нашу живопись?!” – “«И он из-за этого покончил с собою?! Вам достается не меньше, милый Михаил Александрович!” – “Так ведь я моложе, – ответил Врубель, – кто знает, что станется со мною, доживи я до шестидесяти шести, как Рицциони…”
Мы стояли на улице, ветер был промозглым. Врубель предложил пойти к “Давыдке”, на Владимирский проспект, я согласился с радостью, ибо время, проведенное с гением, обогащает тебя куда больше, чем сделка на бирже.
Врубель попросил шампанского вина, от еды отказался, я, однако, умолил его взять белой икорки, только-только пришла из Астрахани. Мы долго сидели в молчании, потом он поднял бокал, сказав: “Мир его праху и добрая ему память в наших сердцах. Какой был твердый хозяин своей жизни, какой честный труженик. А как пристрастно истолковал эту его честность “Мир искусств”! Безжалостно, бесшабашно, без боли за судьбу нашего искусства! Господи, в чьих же руках суд над нами, художниками?! Кто только не дерзал на нас! Чьи только грязные руки не касались самых тонких струн чистого творчества?! А разве эта вакханалия недоброжелательства не путает реальные представления в нашей среде? Надо всегда помнить, что труд скромного мастера несравненно почтеннее, чем претензии добровольных невропатов, лизоблюдничающих на пиру искусства. В ту пору, когда “неумытые” звали меня “Юпитером декадентов”, полагая в своей темной наивности, что это страшное зло, Александр Антонович так был добр ко мне, так трогателен… Утешитель и друг с лучистыми глазами младенца. Когда же мы убедимся, что только труд и умелость дают человеку цену? Почему ополчились против этой истины?!”
Он выпил, отставил бокал, посмотрел на меня своими прекрасными глазами и заплакал.
Такой гордый, самолюбивый, сдержанный человек сидел и плакал, беззвучно, неподвижно, только слезы катились по небритым щекам и странно дергались губы, словно бы он приказывал себе перестать, но сердце, неподвластное слову, не слушалось приказа…
Господи Боже ты мой, как же трудна жизнь артиста, как раним он, и как умеют этим пользоваться многочисленные Сальери.
Два года двадцатого века отмечены на всемирном календаре, а нравы наши по-прежнему подобны дикарским, пещерным.
Поклон нижайший Вашему семейству.
Искренне Ваш
Василий Скорятин».
4
Свое шестидесятипятилетие князь Евгений Иванович Ростопчин отметил в одиночестве, никого не звал. Накануне он слетал в Париж, отстоял службу в православной церкви на рю Дарю, оттуда отправился в Ниццу, взял на аэродроме в прокат маленький «Фиат» (терпеть не мог показного шика, экономил в мелочах, чтобы главные средства вкладывать в дело, а проценты – в приобретение русских книг, картин, икон, архивов) и отправился на кладбище – совсем небольшое, на окраине города. Здесь были похоронены русские, никого другого, только русские – Горчаковы, Ростопчины, Вяземские, Епанчины, Пущины, Раевские, Беннигсены, Кутузовы, Романовы…
Смотритель кладбища, запойный серб Петя, как всегда в этот день, приготовил огромные букеты роз: белые – для бабушки, красные – мамочке; это их любимые цвета. Память о людях как бы продолжает их жизнь среди нас, создавая иллюзию постоянного соприсутствия, непрерываемого бытия…
Евгений Иванович долго сидел возле скромных памятников; потом прошел по маленьким, узеньким аллеям, остановился возле свежей могилы, спросил Петю, кто почил, отчего нет креста. Тот ответил, что преставилась Аграфена Васильевна Нессельроде. Жила в жестокой нужде, голодала, старенькая; на крест собирают, но пожертвование дают очень скупо, по пять – десять франков, откуда ж денег взять. Старики вымерли, молодые по-русски не говорят, растворились, стыдятся предков, норовят фамилию поменять, а уж имен православных и вовсе не осталось, где был Миша, там ныне Мишель, где Петя – Пьер; да хотя б Марье в Мари переделаться, так ведь нет, в Магдалены норовят, только б от своего корня подальше.
Евгений Иванович дал Петечке денег, тот пошел в лавку купить сыра, хлеба, зелени, бутылку красного вина из Сен-Поль-де-Ванса. Князь вообще-то не пил, а если пригубливал, то лишь «вансовку», ее так и Бунин называл, Иван Алексеевич, и Шаляпин, когда наведывался на юг, и даже Мережковский, хотя сурового был норова человек и более всего на свете любил изъясняться по-французски; даже русскую историю комментировал на чужом языке, так, считал он, точнее ее чувствуешь, науке угодна отстраненность.
Однажды кто-то из здешних стариков заметил, что Северную Америку интереснее всех понял француз Бомарше; китайскую культуру открыл итальянец Марко Поло, он же описал ее, сделав фактом мировой истории; Бисмарк лучше всех иных ощущал Россию, а именно русские смогли синтезировать дух Европы, выраженный английской экономией, немецкой философией и французской революцией.
…Ростопчин вернулся к родным могилам. Место между могилой мамочки и князя Горчакова было пустым – он купил эту землю для себя, девять лет назад, когда сын Женя женился на певице из Мадрида. Он уехал с нею в Аргентину, изменил фамилию, став Эухенио Ростоу-Масаль (сократил наполовину отцовскую фамилию и принял девичью фамилию жены), купил пастбища на границе Патагонии. Отцу писал редко, чаще матери. Американка, она бросила Ростопчина, убежав с французским режиссером; была счастлива, пока тот не умер от разрыва сердца; вернулась в Цюрих, позвонила бывшему мужу, предложила мировую. Женя (тогда еще не Эухенио) был в восторге, хоть мать оставила мальчика двадцать лет назад, крошкой, только порою присылала открытки на Рождество. Ростопчин отказал: «Я не прощаю измены». Женя тогда замкнулся, он все эти годы – хоть уж и закончил университет – жил мечтою о семье. Это ведь «шокинг», если за столом нет папы или мамы, – приходится отвечать на вопросы друзей. В том кругу, где он вращался, очень щепетильно относились к тому, чтобы дом был крепостью. Все необходимые приличия соблюдались; пусть папа имеет двух любовниц, а маму обслуживает атлет (пятьдесят долларов в час; конечно, дорого, но необходимо для поддержания жизненного тонуса, гарантирует спокойствие и дружество в семейном очаге), но форма обязана быть абсолютной – на этом держится общество, нельзя замахиваться на святое. Наверное, именно тогда и начался разлад между отцом и сыном. Женя перешел на французский, перестал читать русские книги. По прошествии года Ростопчин, к ужасу своему, услыхал акцент в говоре сына.
– Мальчик, ты не вправе забывать родное слово.
Женя ответил, что его родная речь – французская или английская, на худой конец немецкая или испанская.
– В России я никогда не был, не знаю эту страну и не люблю ее.
– Разве можно не любить родину? – спросил Ростопчин. – Ту землю, где родились твои предки?!
– Моя родина здесь, – ответил Женя, – а большевики выкинули твоих предков и тебя вместе с ними, хороша родина…
Ростопчин заметил, что в случившемся больше вины их, тех, кто правил, чем большевиков:
– Те чувствовали народ, а мы не знали его, жили отдельно, в этом трагедия. Не только большевики, но даже тузы говорили государю, что необходимы реформы, нельзя тасовать колоду знакомцев из придворной бюрократии; конечно, привычные люди охраняют традицию, а какова она была, наша традиция, если говорить честно? Революция случилась через пятьдесят лет после того, как отменили рабство, а править империей продолжали семидесятилетние, они рабству и служили, иному не умели. Надо было привлекать к управлению ответственных людей нового толка, предпринимателей, специалистов производства, а не старых дедов вроде Штюрмера или Горемыкина, которые спали во время заседаний кабинета, тщились сохранить привычное, чурались самого понятия «движение», страшились реформ, а уж про конституцию и слушать не хотели. Пойми, Женя, Россия была единственной страной в Европе, которая жила без конституции, исповедуя теорию общины – то есть не личность, не гражданин, не семья превыше всего, но клан, община, деревня; что хорошо для сотни – то обязательно для каждого! В этом мы повинны перед Россией. Да, горько, да, трагедия эмиграции, но ведь когда мы были в Москве, страна занимала последнее место в Европе, а большевики – хотели мы того или нет – вывели ее на первое, несмотря на все ужасы, трагедии и войны. Нет ничего горше объективности, эмоции всегда угоднее, – душу можно облегчить, поплакав или покричав, но ведь мир подвластен разуму, то есть объективному анализу данностей, а не наоборот. Если наоборот – жди новой трагедии, тогда ужас, крах, апокалипсис.
– Папа, – сказал Женя, – я счастлив, что живу здесь, я не хочу иметь ничего общего с тем, что было у вашей семьи раньше… Мама дала мне душу американца, и я благодарен ей за это. Я живу просто и четко, по тем законам, которыми управляется это общество…
– Двадцать лет ты жил без мамы. Со мною, – заметил Ростопчин. – Когда ты был маленьким, я мыл тебя, одевал, водил в театр, ходил с тобою к парикмахеру, рассказывал сказки…
– Ты упрекаешь меня? – Сын пожал плечами. – По-моему, это принятое отношение к тому, кому дал жизнь. Мама меня никогда и ни в чем не упрекает…
– Не мама воспитывала тебя, а я, Женя.
– Мама родила меня… И я всегда ее помнил. И любил. И ты не вправе требовать от меня, чтобы я вычеркнул ее из сердца. Она – мать.
– Настоящая мать не умеет бросать свое дитя.
– Если ты посмеешь еще раз так сказать о маме, я уйду из твоего дома.
«А на что ты будешь жить? Ты, привыкший к этому замку, и к дворецкому, и к своей гоночной машине, и к полетам на море, и к моей библиотеке, и к утреннему кофе, который тебе приносит в спальню фрау Элиза?»
Но он не задал этого вопроса сыну. Наверное, поэтому и потерял его: безнаказанность – путь к потерям.
Разреши он тогда Жене уйти, тот бы вернулся через месяц, какое там, через неделю; жить в студенческом общежитии, вдвоем с кем-то, не по нему, не вынес бы, научился бы ценить того, кто гарантирует привычные удобства. Но ведь это так жестоко, думал тогда Ростопчин, это и есть то самое, против чего я всегда восстаю, – прагматическая бездуховность, форма дрессуры. Удобно, конечно, никаких эмоций, все по правилам, абсолютное соблюдение приличий, но, Боже, какой холод сокрыт в этом! Какое ледяное, крошечное рацио! Воистину проблемы семьи проецируются на трагедии государств…
С той поры Женя ни разу не произнес ни одного русского слова.
Ростопчин пригласил его съездить в Россию.
– Я помню Москву, – сказал он сыну, – мне тогда было пять лет, но я помню ее отчетливо… Давай полетим туда, все-таки надо увидеть ту страну, откуда родом твой отец.
– Зачем?
– Ну, хотя бы затем, что я тебя прошу об этом.
– Я совершенно забыл твой язык, мне будет там неинтересно, какой смысл?
– Только такой, что я тебя об этом прошу, – повторил князь. – По-моему, я никогда и ничем не унижал тебя, Женя… Я выполняю все твои пожелания, какое там, я угадываю твои желания… Во всяком случае, мне так кажется… Я очень тебя прошу, сын…
Тот вздохнул, пожал плечами, согласился, но поставил условие, чтобы эта поездка состоялась в те месяцы, когда нет ни купального сезона на Средиземноморье, ни лыжного сезона в Альпах.
Они приехали в Москву в ноябре. Моросил дождь, ветер был пронизывающим. Ростопчин попросил шофера, что вез их из Шереметьева (он купил люксовый тур, с автомобилем и двухкомнатным номером в «Национале»), ехать помедленнее. «Невероятно», – то и дело повторял он, когда проезжали Ленинградский проспект и улицу Горького. Нет, это не «потемкинская деревня», это явь, он-то помнил, что здесь была узкая улочка, старенькие дома; они уезжали с Белорусского, каждая деталь врезалась ему в память. Говорят: «Ты был маленький, ты не помнишь», – какая чушь, что может быть точнее детского восприятия мира, тебя окружающего, что может быть рельефнее, истиннее?!
Поздним вечером они вышли гулять по Москве. Возле «Арагви» Женя увидел очередь, спросил отца, что это. Тот объяснил, сын фыркнул:
– Веселая родина у моего отца, такая уж веселая, что даже поужинать толком нельзя, надо мокнуть под дождем – какое варварство!
Ростопчин, однако, надеялся на завтрашний день: Третьяковка, потом Библиотека имени Ленина, вечером – «Годунов». С прогулки они вернулись в отель около двенадцати. Женя попросил ужин, ему ответили, что ресторан уже закрыт.
– Что же мне, принимать снотворное? Я не могу заснуть на голодный желудок.
– Пойдите в валютный бар, – ответили ему, – там сделают сандвич.