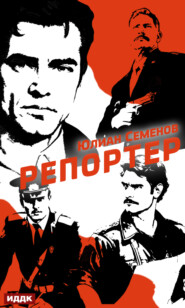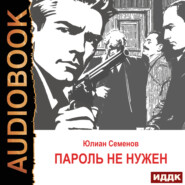По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Майор Вихрь. Семнадцать мгновений весны. Приказано выжить
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С кем? – улыбнулся Нойбут. – Ей не с кем воевать, она едина и неодолима.
Он раскрыл папку, и фон Штромберг сразу же вышел из комнаты. Нойбут быстро проглядывал документы, подготовленные дежурным по штабу. Бумаги, не представлявшие интереса, он складывал в папку; серьезные материалы откладывал в сторону и придавливал их большим камнем сердолика, подаренным ему генералом Прайде, когда тот прилетал на неделю из Крыма; наиболее важные документы Нойбут собирал в большой зажим, сделанный в форме руки дьявола: с большими, кривыми, острыми ногтями.
Генерал работал до часу ночи. Первый документ, который он подписал, был приказ, подготовленный в его секретариате совместно с сотрудниками контрразведки, о повсеместном введении смертной казни на оккупированных территориях:
«Давнишним желанием фюрера является, чтобы при выступлениях против империи или оккупационных властей на оккупированных территориях против преступников применялись иные меры, чем до сих пор. Фюрер придерживается такого мнения: при подобных преступлениях наказание в виде лишения свободы, а также пожизненная каторга рассматриваются как проявление слабости. Эффективного и длительного устрашения можно достичь только смертными казнями или мерами, которые оставляют близких или население в неизвестности о судьбе преступника. Этой цели служит увоз в Германию. Прилагаемые директивы о преследовании преступлений соответствуют точке зрения фюрера. Они апробированы и одобрены им.
Нойбут».
Документ был составлен довольно четко, без раздражавшей Нойбута партийной трескотни, поэтому он подписал его после второго прочтения, переставив в двух местах запятые – всего лишь: Нойбут не любил в документах много знаков препинания.
«Приказ – не беллетристика, – говорил он, – запятые мешают усвоить суть дела. Они цепляют глаз солдата».
С другими документами Нойбут сидел значительно дольше, вносил коррективы, переписывал целые абзацы. И чем больше он работал, тем медленнее подвигались дела – то ли сказывалась дневная усталость, то ли его раздражала плохая работа канцеляристов – обилие витиеватых формулировок, дутая многозначительность: каждый, даже самый маленький, штабист мнит себя стратегом. «Неверное понимание стратегии, – подумал Нойбут. – Истинная стратегия немногословна и отличима своею обнаженной простотой».
Нойбут принял душ, растерся сухим, подогретым полотенцем и лег в постель. Закрыл глаза. Он засыпал сразу же, как только укрывался одеялом. Но сегодня впервые по прошествии десяти-пятнадцати минут он с некоторым удивлением заметил, что сон не идет. Нойбут повернулся на правый бок и сразу же вспомнил мать: она заставляла его спать только на правом боку, подложив обе руки под щеку. Нойбут улыбнулся, вспомнив вкус яблочного пирога: по воскресеньям мать готовила большой яблочный пирог – с ванилью и мандаринами. Мать называла мандарины грейпфрутами, хотя это были настоящие мандарины.
«Неужели бессонница? – подумал Нойбут. – Говорят, это крайне изнурительно. Отчего так? Несуразица какая-то».
Он лежал, крепко смежив веки. Сначала он видел зеленую пустоту, а потом в этой зеленой пустоте он увидел черные ряды бараков концлагеря. Они сегодня пролетали над этим концлагерем для военнопленных. Офицер из СС прокричал в ухо Нойбуту:
– Это лагерь с газом. Производительность печей – более тысячи человек ежедневно.
– Каких печей? – спросил Нойбут.
– Газовых, господин генерал, газовых, – пояснил тот, – это гигиенично и рационально: не расползаются вздорные слухи.
«Видимо, это, – подумал Нойбут. – В последнее время они то и дело колют нас, солдат, этой своей гадостью. Зачем? Пусть за газовые печи, если это необходимо, гестапо отвечает перед нашим будущим и своей совестью. Я – солдат. Нация позвала меня на борьбу, и я стал на борьбу».
Нойбут поднялся с кровати, подошел к окну, поднял светомаскировку и долго смотрел на город, который будет уничтожен.
«Они стенографировали каждое мое слово, когда я уточнял план уничтожения очагов славянской культуры, – вспомнил отчего-то генерал. – О, трухлявый ужас архивов, где хранится то наше, о чем мы сами давным-давно забыли! Тихие, злорадные чиновники-мышата надежно и цепко хранят наш позор. Как многие мечтают, верно, забраться в архивы и секретные сейфы и уничтожить все, касающееся их судеб, слов, призывов, обещаний!»
Нойбут отошел к столу и снова начал пролистывать бумаги, подписанные им сегодня. Над первым документом – о казнях и высылке в Германию – он задумался по-новому.
«Я старый человек, – подумал он жалобно и горько. – Они должны будут понять, что я старый человек и солдат. Никто не имеет права судить солдата, кроме Родины. Никто не смеет судить долг перед народом».
Нойбут поднялся и сделал приписку к этому приказу: «Применение этого приказа, сурового, как и все, рожденное войной, необходимо только в тех случаях, если налицо – доказательства преступления».
Он прошелся по комнате, вернулся к столу и тщательно зачеркнул свою приписку.
«Корректировать фюрера? – подумал он. – Вряд ли это пройдет незамеченным. Гальдеру и Браухичу легко: они ушли в оппозицию давно; им простится все, что они делали прежде. Мне уходить в оппозицию поздно – не приобрету там, но потеряю здесь. Я забыл о главном принципе военной стратегии: «отступи вовремя». Я поверил грохочущей логике нашего фюрера, тогда как превыше всего обязана цениться тихая логика собственной мысли. Общенациональный истеризм смял и меня. Это – очевидно».
Нойбут вызвал дежурившего подполковника Шольфа и сказал:
– Принесите мне стенограмму совещания, которое я созывал, – о будущем Кракова.
Шольф положил перед генералом стенограмму совещания, созванного им в связи с акцией по уничтожению очагов славизма.
Нойбут сидел за столом – строгий; мундир в талии перехвачен широким черным ремнем, сапоги – каблук к каблуку, как на параде. Он внимательно перечитал стенограмму и поставил галочку против своих слов: «Между прочим, Биргоф, я плакал слезами восторга в Лувре. Я бы возражал против этой акции, если бы не отдавал себе отчета, что она необходима как военное мероприятие».
Он откинулся на высокую спинку и подумал: «Ну что ж… По-моему, это достойно. Я говорил как солдат».
Он отложил стенограмму, потянулся, замер, сцепив пальцы рук. Усмехнулся – возле его рук лежали пальцы дьявола, вцепившиеся в бумаги из сегодняшней почты.
«Вот оно, – подумал Нойбут. – Все мое наиболее важное и страшное хранится в этих лапах. Я был у Гиммлера, когда он говорил о целях уничтожения славизма и его очагов. Эти цели продиктованы их политическими и расовыми устремлениями, а не требованием военной обстановки. А я согласился с ним. И все слышали это. Неизвестно, что страшнее: мои фразы в этой стенограмме или же обоснование необходимости уничтожения там, у Гиммлера в кабинете. Самое худшее, если я предстану перед судом потомков в роли дешевого балаганного двуликого актера, а не солдата».
Нойбут расцепил похолодевшие пальцы, поднялся, пристукнул кулаком по столу, выключил свет, открыл окно и сказал:
– Только драться… До конца…
С этим он лег. Уснул легко.
Порыв ветра слизнул со стола несколько листков. Пролетев через всю комнату, они мягко скользнули под кровать.
Поднялся Нойбут, как обычно, в шесть утра. Сделал гимнастику, принял ледяной душ, сам побрился и вызвал Шольфа.
– Пусть мне сменят этот зажим для бумаг, – попросил он, указав глазами на пальцы дьявола. – Абракадабра какая-то. Вкус трусливого мещанина, разбогатевшего на сводничестве.
Шольф сразу же пошел отдать соответствующее распоряжение. Через несколько минут генерал в сопровождении дежурных адъютантов вышел из своего номера. Проходя мимо замершего по стойке «смирно» офицера охраны СС, дежурного по этажу – инвалида и польской горничной, он остановился и сказал:
– Я оставил на тумбочке рубашку. Постирайте ее, пожалуйста. Но ни в коем случае не крахмалить. Воротничок должен быть мягким.
– Хорошо, господин генерал.
Нойбут протянул пани Зосе леденец:
– Это вашим внукам.
Она сделала низкий книксен, принимая подарок, и тихо ответила:
– Благодарю вас, у меня нет внуков.
– Дайте сыну, – улыбнулся Нойбут, – пусть точит зубы.
Пани Зося сделала книксен еще раз:
– Я одинока, господин генерал. Я съем леденец сама.
Ее сын сидел в тюрьме, дожидаясь расстрела. Он был приговорен к расстрелу имперским народным судом в Бреслау. Он был связным у Седого. Он не открыл своего имени, иначе пани Зося не смогла бы работать здесь. Пани Зося не стала обращаться за помощью к генералу – он, возможно, спас бы жизнь сыну. Подполью пани Зося была нужна в офицерской гостинице.
Пани Зося вошла в номер к генералу, сложила в сумку рубашку и начала уборку. Сначала она перестелила постель – ей показалось, что Нойбут недостаточно аккуратно взбил подушку, потом вытерла пыль и начала протирать паркет провощенным куском фетра. Она увидала под кроватью два листка бумаги, взяла их и быстро спрятала в сумку. Через два часа кончилась ее смена, и пани Зося вышла из гостиницы под руку с дежурным инвалидом-фельдфебелем – он у нее столовался.
За рюмочкой
Фон Штромберг вызвал дежурную машину, когда Нойбут отпустил его, устроился на заднем откидном кресле, где обычно сидел генерал, а не впереди, на обычном адъютантском месте, и спросил шофера:
– Как ты думаешь, куда я хочу поехать?