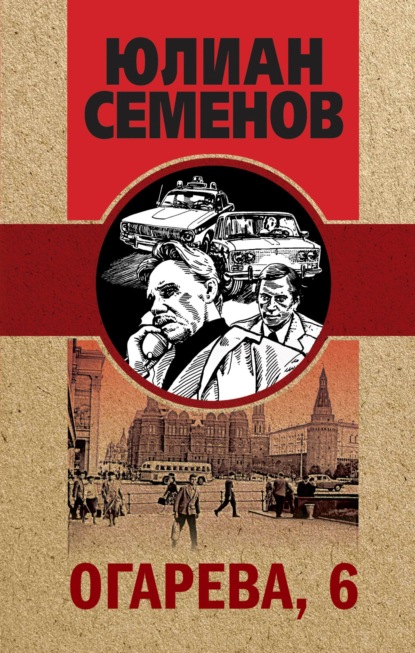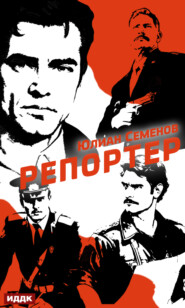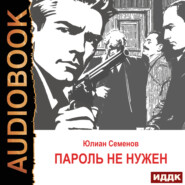По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огарева, 6
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отрываетесь от народа, Леночка, нехорошо. – Кешалава улыбнулся. – Можно вас пригласить на танец?
– Не сердитесь, пожалуйста. Я очень устала, мне бы до подушки добраться.
Кешалава отошел к метрдотелю, и через пять минут на столе появилось десять бутылок коньяка «Дойна».
Леночка заметила, как Марк Григорьевич затравленно посмотрел на оператора, тот – на заместителя директора картины Гехтмана, а Гехтман – на Чоткерашвили: эти десять бутылок составляли месячную зарплату режиссера-постановщика. Чоткерашвили чуть кивнул на Кешалаву – мол, это он заказал, все в порядке, никому из нас не придется платить.
– Позвольте еще одно слово? – обратился Кешалава к тамаде. – Я понимаю, что нарушаю очередность, но я коротко.
– Слово Виктору, – сказал оператор. – Второй дубль, – добавил он под смех группы. – Первый был слишком длинный, да и Марк Григорьевич оказался не в фокусе.
– Я хочу просить всех наполнить бокалы и поднять их за здоровье очаровательного человека, нежной женщины и великой артистки, которая покоряет сердца и умы зрителей! За Леночку! Она сказала сейчас, что очень устала, но этот коньяк взбодрит ее, придаст ей сил для того, чтобы и завтра продолжать прекрасную работу, которая никого не оставляет равнодушным.
Кешалава выпил первым до конца и посмотрел на Леночку. Она улыбнулась.
– Не сердитесь, Виктор, но я коньяк не пью. Я вообще не пью.
– Совсем ничего?
– Глоток шампанского – это моя доза. Спасибо вам, не сердитесь, бога ради.
Кешалава снова отошел к метрдотелю, и через несколько минут официанты принесли дюжину шампанского.
– Этот инженер, – сказал Марк Григорьевич оператору, – не иначе как по совместительству пишет сценарии. Двести за коньяк плюс шестьдесят за шампанское.
– Вы обязаны выпить глоток, – говорил Кешалава, наливая Леночке шампанское в высокий бокал, – это – солнце, во-первых, здоровье, во-вторых, и наконец, в-третьих, это – творчество!
Разъезжались из «Эшер» около двух. Кешалава попросил музыкантов задержаться, и еще часа полтора в ресторане шло веселье.
Ассистент Чоткерашвили сидел возле художника Рыбина. Тот катал по скатерти хлебные шарики и с тяжелой ненавистью смотрел на Марка Григорьевича.
– Как его пустили в искусство? – спрашивал он Чоткерашвили. – Зачем? Только наша демократия гарантирует права такой бездари… У него диплом – и все тут! Значит, его нельзя прогнать взашей. А ему важен тот момент, когда он влезает в соавторы к сценаристу и получает постановочные, больше его ничто не интересует. Он ведь и актеру-то ничего толком показать не может, актерам неинтересно работать, им делается скучно, когда они видят его сонную физиономию.
– А ты чего злишься? Тебе ж с ним спокойно – никаких требований! Рисуй себе этюды, готовь персональную выставку.
– Я в творчестве не спокойствия ищу, я ищу в работе гибели.
– Иди в верхолазы, – предложил Чоткерашвили. – С твоей комплекцией сразу в ящик сыграешь.
Кешалава все же уговорил Леночку потанцевать с ним. Он танцевал по старинке, далеко отведя левую руку и прижимая к себе Леночку тыльной стороной ладони.
– Прекрасный джазовый коллектив, – говорил он, – обидно, что они играют в таком вертепе.
– Здесь очень мило, какой же это вертеп?
– Ну, все-таки. Они могли бы давать сольные концерты. А вам можно выступать с сольными концертами?
– Когда? У меня театр, в свободные дни – съемки, да и сейчас как-то не принято играть отрывки из спектаклей в концертах.
– Простите за нескромный вопрос, Леночка. Сколько вам платят в театре?
– Сто двадцать.
– Сто двадцать за спектакль?
Леночка устало усмехнулась:
– В месяц, Виктор, в месяц!
– А за картину?
– Моя ставка – двадцать пять рублей за съемочный день. Здесь у меня будет дней двадцать. Вот и считайте.
– Вам должны платить сто рублей в день, Леночка!
Актриса улыбнулась.
– Я стану миллионершей, а это плохо, Виктор.
– Почему?
– Потому что это убивает творчество.
– Ну, не знаю, лично мне, когда я сыт, лучше работается. Простите, Леночка, а вы замужем?
– Замужем.
– Я бы на месте вашего мужа умер от ревности: такая красивая женщина разъезжает одна.
– Мы с мужем исповедуем свободу.
– Да? Это как?
– Ну как? Трудно это объяснить. – Леночка вздохнула. – Пытаемся выстроить систему мирного сосуществования.
Метрдотель подошел к Кешалаве и сказал:
– Извините, дорогой, но уже очень поздно.
Кешалава протянул ему деньги, но метрдотель отрицательно покачал головой.
– Нет, спасибо. Вы уже за все заплатили. Я другое имел в виду – последний автобус уходит в город, мне пора домой.
По дороге в Сухуми так громко пели песни, что усталый шофер обернулся и зло сказал:
– Тише, пожалуйста, у меня перепонки лопнут.
Кешалава передал ему бутылку коньяка.
– Не сердитесь, пожалуйста. Я очень устала, мне бы до подушки добраться.
Кешалава отошел к метрдотелю, и через пять минут на столе появилось десять бутылок коньяка «Дойна».
Леночка заметила, как Марк Григорьевич затравленно посмотрел на оператора, тот – на заместителя директора картины Гехтмана, а Гехтман – на Чоткерашвили: эти десять бутылок составляли месячную зарплату режиссера-постановщика. Чоткерашвили чуть кивнул на Кешалаву – мол, это он заказал, все в порядке, никому из нас не придется платить.
– Позвольте еще одно слово? – обратился Кешалава к тамаде. – Я понимаю, что нарушаю очередность, но я коротко.
– Слово Виктору, – сказал оператор. – Второй дубль, – добавил он под смех группы. – Первый был слишком длинный, да и Марк Григорьевич оказался не в фокусе.
– Я хочу просить всех наполнить бокалы и поднять их за здоровье очаровательного человека, нежной женщины и великой артистки, которая покоряет сердца и умы зрителей! За Леночку! Она сказала сейчас, что очень устала, но этот коньяк взбодрит ее, придаст ей сил для того, чтобы и завтра продолжать прекрасную работу, которая никого не оставляет равнодушным.
Кешалава выпил первым до конца и посмотрел на Леночку. Она улыбнулась.
– Не сердитесь, Виктор, но я коньяк не пью. Я вообще не пью.
– Совсем ничего?
– Глоток шампанского – это моя доза. Спасибо вам, не сердитесь, бога ради.
Кешалава снова отошел к метрдотелю, и через несколько минут официанты принесли дюжину шампанского.
– Этот инженер, – сказал Марк Григорьевич оператору, – не иначе как по совместительству пишет сценарии. Двести за коньяк плюс шестьдесят за шампанское.
– Вы обязаны выпить глоток, – говорил Кешалава, наливая Леночке шампанское в высокий бокал, – это – солнце, во-первых, здоровье, во-вторых, и наконец, в-третьих, это – творчество!
Разъезжались из «Эшер» около двух. Кешалава попросил музыкантов задержаться, и еще часа полтора в ресторане шло веселье.
Ассистент Чоткерашвили сидел возле художника Рыбина. Тот катал по скатерти хлебные шарики и с тяжелой ненавистью смотрел на Марка Григорьевича.
– Как его пустили в искусство? – спрашивал он Чоткерашвили. – Зачем? Только наша демократия гарантирует права такой бездари… У него диплом – и все тут! Значит, его нельзя прогнать взашей. А ему важен тот момент, когда он влезает в соавторы к сценаристу и получает постановочные, больше его ничто не интересует. Он ведь и актеру-то ничего толком показать не может, актерам неинтересно работать, им делается скучно, когда они видят его сонную физиономию.
– А ты чего злишься? Тебе ж с ним спокойно – никаких требований! Рисуй себе этюды, готовь персональную выставку.
– Я в творчестве не спокойствия ищу, я ищу в работе гибели.
– Иди в верхолазы, – предложил Чоткерашвили. – С твоей комплекцией сразу в ящик сыграешь.
Кешалава все же уговорил Леночку потанцевать с ним. Он танцевал по старинке, далеко отведя левую руку и прижимая к себе Леночку тыльной стороной ладони.
– Прекрасный джазовый коллектив, – говорил он, – обидно, что они играют в таком вертепе.
– Здесь очень мило, какой же это вертеп?
– Ну, все-таки. Они могли бы давать сольные концерты. А вам можно выступать с сольными концертами?
– Когда? У меня театр, в свободные дни – съемки, да и сейчас как-то не принято играть отрывки из спектаклей в концертах.
– Простите за нескромный вопрос, Леночка. Сколько вам платят в театре?
– Сто двадцать.
– Сто двадцать за спектакль?
Леночка устало усмехнулась:
– В месяц, Виктор, в месяц!
– А за картину?
– Моя ставка – двадцать пять рублей за съемочный день. Здесь у меня будет дней двадцать. Вот и считайте.
– Вам должны платить сто рублей в день, Леночка!
Актриса улыбнулась.
– Я стану миллионершей, а это плохо, Виктор.
– Почему?
– Потому что это убивает творчество.
– Ну, не знаю, лично мне, когда я сыт, лучше работается. Простите, Леночка, а вы замужем?
– Замужем.
– Я бы на месте вашего мужа умер от ревности: такая красивая женщина разъезжает одна.
– Мы с мужем исповедуем свободу.
– Да? Это как?
– Ну как? Трудно это объяснить. – Леночка вздохнула. – Пытаемся выстроить систему мирного сосуществования.
Метрдотель подошел к Кешалаве и сказал:
– Извините, дорогой, но уже очень поздно.
Кешалава протянул ему деньги, но метрдотель отрицательно покачал головой.
– Нет, спасибо. Вы уже за все заплатили. Я другое имел в виду – последний автобус уходит в город, мне пора домой.
По дороге в Сухуми так громко пели песни, что усталый шофер обернулся и зло сказал:
– Тише, пожалуйста, у меня перепонки лопнут.
Кешалава передал ему бутылку коньяка.