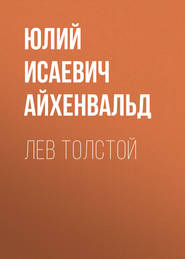По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кольцов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скоро зажужжит коса, засверкает кругом, и зашумит трава подкошенная, и поклонятся цветы головой земле. Ибо цветы должны уступить хлебу, сену, всему укладу крестьянской хозяйственности. Но засохнут они так, как сохнет молодец по Груне, потому что между цветами и любовью, между степью и людьми есть родственное сочувствие.
Влюбленной девушке скучно на поле, и ей нет охоты жать колосистой ржи; бедная! – как раз в жнитво пришла ей пора любить, и случайно нарушилась великая одновременность солнца и сердца, душевной и стихийной весны.
Жница жнет не жнет,
Глядит в сторону,
Забывается.
Простые муки и простые радости любви еще более оттеняют силу и страстность самого чувства, и чувство здесь далеко от бледной утонченности: оно здорово, нормально, горит и трепещет жадным огнем, – обойми, поцелуй, приголубь, приласкай. Идеал женской красоты не возвышен, и обычны у Кольцова упоминания о полной груди, о полных щеках. Зато молодость окрашена здесь необыкновенно ярко, она гремит и звенит о себе, празднует вовсю свой упоительный праздник. Она гордо потряхивает своими кудрями, и певец этих кудрей, Кольцов, не однажды воздает им честь и славу; они лежат у разных лихачей-кудрявичей русой или черной шапкой, и молодым кудрям все счастливится. Потом уходит кудрявая молодость; но пока она играет и дышит – так любится, так верится. И пусть какая-нибудь деревенская красавица в незатейливом голубом платье или в той касандрике, которую, по кольцовской песне, ей Павел подарил, пусть она не похожа на изящных горожанок – вся исконная сила любви обращается на нее, на одну нее, и любят ее, как только можно любить свою жизнь, свое счастье, свою душу.
Прочил молодец,
Прочил доброе
Не своей душе —
Душе-девице.
Девица у кольцовского пахаря – это именно душа (самый частый и нормальный для нее эпитет); «дева – радость души», в сердце живет не кто иной, как именно девица, и можно даже так сказать, что сердце – это она и есть, что душа в человеке, особенно в пахаре, это и есть любимая девушка. Оттого лишиться девицы – значит погубить свою жизнь: нельзя жить без души. И мстит несчастный любовник счастливому сопернику. Но делает он это тоже по-деревенски, элементарно, как и все, что совершается в этой обстановке: он пускает на его избу красного петуха. И трагедии любви разыгрываются в хуторке – там, где за рекой, на горе лес зеленый шумит.
Однако не следует думать, что этой простоте чужды непонятные и мрачные трепетания духа: в ее рамке, среди расцвета естественности, особенно выделяются черты суеверные и колдовские. И вот девушка затеплит свечу воску ярого, для того чтобы распаять кольцо друга милого, друга ей изменившего, с нею разлучившегося; но память милого не хочет разлиться «золотой слезой» и
Невредимо, черно
На огне кольцо,
И звенит по столу
Память вечную.
Так в обыденность врывается «сила пододонная», сила нечистая, от которой службы требуют, хотя в страдальческую душу самого Кольцова она не проникает. Ясно и прозрачно в ней, в душе последнего пахаря.
Сам Кольцов уже и не пашет; отставший пахарь, он стоит в стороне и только радуется чужой молитвенной радости, поэтизирует крестьянские идеалы. Но нива, которой он теперь непосредственно не возделывает, все-таки остается ему близка, и он вдыхает в себя ее живительный запах. Он вышел было за околицу родной деревни, свернул по дороге в город, но до города не дошел. Культура позвала Кольцова, но отозвался на нее уже не поэт: ее претворить в прекрасное, ее постичь интуитивно, создать художество из сознания он был не в силах и ограничился здесь одной рассудочностью. И оттого, например, его «Думы» составляют самый неудачный отдел его стихотворений. Это не потому, что в них чувствуется самоучка или, по его выражению, «сам-собой поэт»; напротив, в других стихотворениях, где он вещает известные всем истины, они не производят впечатления оскорбляющей банальности, так как он дошел до них путем личного внутреннего опыта, пережил и перестрадал их сам; и свежо звучат у него все эти жалобы – увы! нет дорог к невозвратному, никогда не взойдет солнце с запада, не расти траве после осени, не цвести цветам зимой по снегу. Нет, его «Думы» слабы оттого, что философская отвлеченность ему, питомцу конкретного, существенно чужда, и размышление, в своей обособленности, в своей оторванности от наглядного и народного, лежит вне его душевной сферы.
Правда, в природу он вдумывается; он спрашивает, о чем шумит сосновый лес, какие в нем сокрыты думы, – но вот именно думы природы ближе ему, чем идеи человеческие. Этот лес, например, вообще им столь любимый и уже раз сближенный с любимым Пушкиным, расстилается перед ним как застывшее движение, как сон, исполненный вещей глубины: весь мир, по красивой мысли Кольцова, некогда должен был стать лесом, на всю вселенную притязал лес, – но его поступательное движение, космическое нашествие макбетовского Бирнамского леса, остановила чья-то могучая воля, и он с тех пор
…в сон невольно погрузившись,
В одном движении стоит.
Этим и объясняется вечный ропот леса, его сквозь сонный мировой бред. В противоположность тому сердечному автору, для которого «лес шумит» не стихийным шумом, а сочувственным откликом на людскую семейную драму, Кольцов понимает и принимает природу в ней самой, в ее собственных интересах и заботах, а не только в ее преломлениях через наши маленькие, человеческие призмы. Она – сама по себе. Конечно, мы возвращаемся к ней, и пахарь с нею хранит исконную связь; но не так поверхностно, как думают иные, лежат в ней наши корни. Стихия не поступается собою, своей внутренней самостоятельностью, не хочет низводить себя до наших мелочей; но тем отраднее и знаменательнее, что есть такая область и такое дело, где человек проникает и приникает к самым истокам бытия, к его «великим матерям». Эта область – нива, это дело – земледелие.
Итак, Кольцов своею душою облетает природу, как сокол быстрый, и испытует ее затаенную мысль, которую он чует даже «в дыхании былинки молчаливой». Но только эту мысль и эту былинку он лучше всего оживит в наивной песне, рвущейся из груди. Дума же, как дума именно, его, свободного от знаний и этой свободой еще более приближенного к деревенской непосредственности, тяготит, и он сам сознается:
Тяжела мне дума, —
Сладостна молитва.
Та молитва, которая в душе благодарной и умиленной зародилась при зрелище нивы, от присутствия хлеба, питающего мир и миром воспитанного, та молитва к матери-земле, убравшейся Божьей милостью, милостью солнца, в золотое платье колосьев, – она сохранилась навсегда у пахаря, на деле уже не пашущего, но сердцем неизменно преданного полю. Начав религиозностью под голубым пологом неба, в упоении дарами урожая, Кольцов к ней же вернулся и тогда, когда стал думать о мире, и он скоро даже отказался от своих дум во имя живой веры, отказался от своих вопросов, потому что
Нет Богу вопроса, —
Нет меры ему.
Он проникновенно, тепло верует, на святое Провидение положился он давно, под крестом его могила, на кресте его любовь. Он верует, он религиозен, он перед Творцом, перед иконой, склоняет свои колена за всяческие урожаи и дары мира, за хлеб и все счастливое, что хлеб окружает, – но из глубины молящейся и смиренной души все-таки вырывается незаглупшмый вопль, благоговейно-ласковый упрек Провидению, и вечерняя молитва звучит грехом:
Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы!
Но, Боже, и вере
Могила темна!
И вере могила темна. В темь и загадку могилы не бросит луча даже и вера. И мы бродим вокруг чужих могил, и видим в отдалении собственную, и недоуменно спрашиваем:
Чья это могила
Тиха, одинока?
И крест тростниковый,
И насыпь свежа;
И чистое поле
Кругом без дорог.
Чья жизнь отжилася?
Чей кончился путь?
………………….
Или молодая
Жница-поселянка,
Ангела младенца
На руках лелея,
Оплакала горько
Кончину его, —
И под ясным небом
В поле на просторе,
В цветах васильковых,
Положен дитя?..
Веет над могилой,
Веет буйный ветер,
…………………………
Будит вольный ветер,
Будит, не пробудит
Дикую пустыню,
Тихий сон могилы.
Это естественно, что больше всего недоумевает и трепещет пред смертью именно пахарь: ведь он сеет жизнь, он видит самое рождение ее, готовит ей колыбель святую – и здесь же, рядом с этой колыбелью, около колосьев, разверзается могила! Раститель зерен, помощник миру, пестун жизни, стоящий у самых начал бытия и ему споспешествующий, чутко слышащий сердце жизнеобильной земли, он не может понять гроба с его молчанием и холодом.
А Кольцов тем более пугается этого мертвого безмолвия, что сам он необычайно богат жизнью, и вся его поэзия, зародившаяся под солнцем, представляет неудержимый и далеко не исчерпанный порыв к бытию и воле. Хочется «воли безотменной»:
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Чуется какой-то размах, неутолимое желание жизни:
Так и рвется душа
Из груди молодой,
Хочет воли она,
Просит жизни другой.
Рвутся колосья из земли вверх, рвется и душа из груди молодой, хочется воздуха – груди, свободы – душе. Оттого и звучит в его поэзии несмолкаемый зов. И живет в Кольцове столько звуков, столько песен, что их достало бы на жизнь гораздо большую, чем та, которая пришлась на его горестную долю. Потому и раздаются у него мотивы сильной воли, которая от полей, от овина тянет даже с булатным ножом в темные леса, и песнь пахаря превращается в песнь разбойника, идиллия переходит в трагедию. Самого Кольцова преступное не тяготит, но он знает, что мирный земледелец таит в себе и вольницу. Даже неизвестно, на что будет употреблена вольная жизнь, но тянет к жизни вообще, просто к ней, только к ней. Живой струею переливаются, как в богатыре, непочатые силы.
Однако восторг бытия, удаль молодости перемежаются у нашего певца с унынием, и эта неоднородность настроения составляет внутренний надлом его поэзии. В Кольцове были силы и на радость, и на страданье, но в конце концов перевес взяли последние, и вы чувствуете в нем невыплаканные слезы. Уныние победило; не осуществились пылкие возможности, которые трепетали в этом по преимуществу живом сердце, и жизнь, та единственная жизнь, которой нет повторения, которой нельзя поправить, – она ему не удалась. Были связаны крылья у этого сокола, но сокола не кровожадного; были все пути ему заказаны, кроме пути к ранней, безвременной могиле. И он ушел в нее, обиженный, обманутый, с великой горечью и беспомощной тоской. Исполнилось его предчувствие, которое он выразил и в обращении к сестре, и в стихотворении «На новый 1842 г.». Кончился старый год, и вот наступает новый: