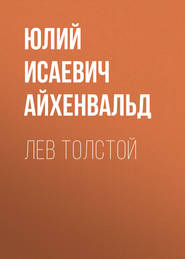По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…
И после них на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной…
И даже Наполеону дорог след, наследник, и зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе.
Но своею мыслью Лермонтов все же тяготеет к этому холодному величию бесследного существования, он поклоняется ему и, «сам немножко в этом роде», устами демона внушает человеку уподобиться облакам, перенять их беспечность и безучастность:
Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль;
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.
Бесследной, несплошной душе неведомы раскаяние и жалость, от нее далеки страсти и страдания; для нее, растворившейся на отдельные мгновения, любовь – без радости, зато разлука – без печали. Печорин ни к кому не имеет настоящей привязанности. Беспечный и безучастный, как облака, он не вспоминает о Бэле, его не мучит совесть за Грушницкого, и, свободный от дружбы, которая стесняет своими нравственными следами и связями, он не чувствует благодарности к Максиму Максимычу и при встрече обдает его холодом глубокого равнодушия. Он боится женитьбы (хотя в этой боязни есть у него и много обыкновенной пошлости). Он уходит, «ни с кем в отчизне не простясь»; он приходит, никого не приветствуя, – да и вообще есть ли у него духовная отчизна?
Именно такие неоседлые души, которые не возвращаются, которые разрывают связи и все испытывают один лишь раз, Лермонтов «давно любил отыскивать по свету на свободе». И в прекрасной «Сказке для детей», где в обычном знаменательном союзе выступают демон и девушка, мы читаем о последней:
Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы. Им в жизни нет уроков,
Их чувствам повторяться не дано.
Там, где жизнь состоит из ряда независимых и несвязанных мгновений, она не имеет характера дидактического. Кому она выпала на долю, тот не поучается, а живет. И если Пушкин устами Годунова восторженно славит науку за то, что она «сокращает нам опыты быстро текущей жизни», то Лермонтов такого сокращения не хочет, и для того, чтобы мгновение оставалось чисто, полновесно и ценно, чтобы жизнь не превратилась в урок, в школу, и одно душевное состояние не держалось боязливо и послушно за другое, он отвергает бледные услуги знания. Душе невместно учиться. Она не должна быть памятливой и озабоченной, она не должна иметь опыта, памяти, истории; душа не система. Отсюда же в конечном счете – и это лермонтовское презрение к яду и гнету просвещения, к науке бесплодной, которая иссушает умы, отсюда – это обычное сетование на то, что в знании – смерть и кара («вечностью и знанием наказан»). И апофеоз бесследности создавал в поэте странную иллюзию, будто есть гнетущий избыток знания там, где оно вовсе отсутствовало: «Лермонтову казалось, что многие влачат на себе груз науки и ею заслонили от себя солнце непосредственной и действительной жизни. Для науки характерны именно связи, следы, а певец небесных тучек, космических пилигримов, не хотел следов».
Но бесследность является только желанием, и в сердцах лермонтовских героев, в помнящих людских сердцах, она не может находить себе полного осуществления. Напротив, человек историчен; напротив, тот же безучастный и беспечный Печорин, которому «прошедшего не жаль», сознается, что оно приобретает над ним беспримерную власть: «Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою Душу и извлекает из нее все те же звуки… я глупо создан: ничего не забываю – ничего!» Ничего не забывает и Демон. А Мцыри даже и погиб от того, что не мог забыть своего детства, своей воли.
Что прошло, не бывшим сделать вновь
Кто под луной умеет?
Таким образом, душа оказывается ареной, на которой связанность и бесследность ведут между собою ожесточенную, роковую борьбу. Можно ли не помнить, в человеческих ли силах «незабвенное забыть», отрешиться от своей душевной истории и каждый раз начинать жизнь свежую и свободную?
И от души какая может власть
Отсечь ее мучительную часть?
Душу нельзя ампутировать. Если даже великим напряжением воли будут спугнуты призраки прошлого, все же останется от него безнадежная усталость и безочарование Забвение и память будут попеременно одерживать свои трудные победы, и одинаково будет страдать разрываемая ими душа. Этот раскол во всей его глубине чувствуют герои Лермонтова. Они страстно хотят бесследности – между тем «все в мире есть: забвенья только нет». Ради нее принимают они нечеловеческие формы, потому что она идет за пределы человеческого: они становятся демонами и дивами или, по крайней мере, надевают на себя их красивые личины, завидуя вечной молодости и безмятежности небожителей. Они точно пишут на своем знамени: homo sum et nihil divini a me alienum esse puto (Я человек и ничто божественное мне не чуждо (лат.)). Они хотели бы всю жизнь воплотить в одно неповторяющееся мгновение, которое бы молниеносно вспыхнуло и бесследно сожгло их в своем пламени. «Если б меня спросили, – говорит Печорин в „Княгине Литовской“, – чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья, я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновение и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам, в промежутках скуки и печали».
Вот это божественное мгновение, противопоставленное длительности и вечности, вырванное из «промежутков скуки и печали», составляет один из любимых мотивов нашего поэта. Творец из лучшего эфира соткал живые струны таких душ,
Которых жизнь – одно мгновенье
Неизъяснимого мученья,
Недосягаемых утех.
Пусть с трепетом любви остановится на мне взор моей прекрасной,
Чтоб роковое вспоминанье
Я в настоящем утопил
И все свое существованье
В единый миг переселил.
Божественное мгновение стоит вечности:
Мгновение вместе мы были,
Но вечность – ничто перед ним;
Все чувства мы вдруг истощили,
Сожгли поцелуем одним.
Азраил «за миг столетьями казнен»; мгновенна была дивная песнь Литвинки с ее лютней, ничто не может заменить «мгновенной дружбы меж бурным сердцем и грозой», и, с другой стороны,
Есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Жизнь важна и ценна не в своем количестве, а в своей напряженности, и две тихие жизни променял бы Мцыри на одну – «но только полную тревог». Демон живет века, но эту вечность он отдал бы Тамаре за миг любви, как за ночь любви другой Тамаре отдают путники свою жизнь. Ибо жизнь понята как безусловное и бесследное мгновение. Вечность меньше мига.
Лермонтов глубоко любит это состояние нравственной тревоги и беспокойства, эти молнии души, эти грозы и угрозы, напряженную страстность минуты. Он знает, что такое избыток силы и крови. Все яркое, кипучее, огненное желанно и дорого ему. Он чувствует, что можно отдать целые века за искрометный миг единственного ощущения. И вот почему Кавказ, где все горит и трепещет, где все живет усиленной и роскошной жизнью, где высятся гордые горы, эти «пирамиды природы», – Кавказ является родною страной его жаждущему духу; Кавказ ему к лицу:
Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы.
Его кавказские легенды рисуют тамошнюю жизнь как сплошное приключение. Но и весь мир вообще для Лермонтова – какой-то моральный Кавказ, где нет будничной, удобной безопасности, тишины и покоя. В одно мгновение здесь может все измениться, и потому каждое мгновение интересно, загадочно и тревожно; здесь редко бывает естественная смерть; удар кинжала, выстрел, «злая пуля осетина» в любую минуту прерывает шумные и бранные дни, и человек «весь превратится в слово нет». Всякий может здесь сказать про себя: «Конь мой бежит – и никто им не правит», и конь этот – «седой летун» времени с его безудержным порывом. Время – ветер. В этой очарованной стране страстей «бушует вечная метель» несговорчивых человеческих желаний; люди не знают мира и ничего не уступают друг другу, брат идет на брата, мать проклинает сына, если он бежит от опасных мгновений.
Здесь «мщение – царь в душах людей» —
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал.
Так часто в этой экзотической раме выступают непреклонные мстители, и даже Пушкин умер «с глубокой жаждой мщенья», как это и подобает поэту, который именно «на голос мщенья» должен вырывать из ножен кинжал своего прекрасного гнева. Но ведь кто мстит, те помнят, и все эти могучие Орши, Хаджи-Абреки, Литвинки, Арбенины и Вадимы, все эти неумолимые каллы (убийцы), воплощая собою разлад свободы и связанности, не только не отрешены от прошлого, но в этом смысле именно ради прошлого и живут, не только не поднимаются до облачных высот невозмутимой бесследности, но сладострастно и упоенно проводят в своей душе и в мире самые яркие следы – кровавые следы мести.
Здесь много песни и пляски, много радости и любви. Но именно потому, что жизнь обладает здесь такою стремительностью и полнотой, она мгновенно превращается в смерть. Пляска жизни и пляска смерти граничат между собою. Никогда жизнь не вспыхивает таким сильным и сосредоточенным пламенем, как если она посмотрит в глаза смерти. Оттого эти пламенные люди, эти неспокойные и неоседлые горцы, живущие на высоте орлов, эти живописные всадники царственных коней, делают из своего существования удалую войну: «война – их рай, а мир – их ад». Они «чихирь и мед кинжалом просят и пулей платят за пшено». Они не любят средины между жизнью и смертью, они дышат или полной грудью, или совсем перестают дышать. Они играют и своей и чужой жизнью, стремятся «от душных келий и молитв в тот чудный край тревог и битв», потому что в несравненные мгновения боевой схватки переживают какую-то оргию душевных сил и душевной радости: в один и тот же миг они достигают вершины своего бытия и низвергаются в самую пучину смерти.
Но чувства их бессмертны. Умирает тело, но не страсть. В той жизни надо дочувствовать эту. Разлуки нет. Земные страсти переносятся в могилу, и слышен из нее ревнивый, неуспокоенный голос:
Ты не должна любить другого —
Нет, не должна!
И требует любовник, чтобы и за пределами земного мира возлюбленная покинула для него свои райские селения и, ангел, вернулась к нему, демону:
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне – вселенной.
Однако вполне ли подобает самому Лермонтову жить в этой стране повышенной жизни? С «увядшими мечтами», с умом охлажденным и недоверчивым, с иронией в утомленном сердце – что ему делать там, «где гнезда вьют одни орлы, где тучи бродят караваном», где все наивно и цельно, где дышит стихийная непосредственность? Доктор Вернер – на Кавказе; не звучит ли это странно и противоречиво? И другу Вернера, Печорину, и другу Печорина, Лермонтову, не могли разве сказать горцы того же, что сказали они Измаилу-Бею, в котором не признали брата:
Зачем в страну, где все так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?
И после них на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной…
И даже Наполеону дорог след, наследник, и зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе.
Но своею мыслью Лермонтов все же тяготеет к этому холодному величию бесследного существования, он поклоняется ему и, «сам немножко в этом роде», устами демона внушает человеку уподобиться облакам, перенять их беспечность и безучастность:
Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль;
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.
Бесследной, несплошной душе неведомы раскаяние и жалость, от нее далеки страсти и страдания; для нее, растворившейся на отдельные мгновения, любовь – без радости, зато разлука – без печали. Печорин ни к кому не имеет настоящей привязанности. Беспечный и безучастный, как облака, он не вспоминает о Бэле, его не мучит совесть за Грушницкого, и, свободный от дружбы, которая стесняет своими нравственными следами и связями, он не чувствует благодарности к Максиму Максимычу и при встрече обдает его холодом глубокого равнодушия. Он боится женитьбы (хотя в этой боязни есть у него и много обыкновенной пошлости). Он уходит, «ни с кем в отчизне не простясь»; он приходит, никого не приветствуя, – да и вообще есть ли у него духовная отчизна?
Именно такие неоседлые души, которые не возвращаются, которые разрывают связи и все испытывают один лишь раз, Лермонтов «давно любил отыскивать по свету на свободе». И в прекрасной «Сказке для детей», где в обычном знаменательном союзе выступают демон и девушка, мы читаем о последней:
Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы. Им в жизни нет уроков,
Их чувствам повторяться не дано.
Там, где жизнь состоит из ряда независимых и несвязанных мгновений, она не имеет характера дидактического. Кому она выпала на долю, тот не поучается, а живет. И если Пушкин устами Годунова восторженно славит науку за то, что она «сокращает нам опыты быстро текущей жизни», то Лермонтов такого сокращения не хочет, и для того, чтобы мгновение оставалось чисто, полновесно и ценно, чтобы жизнь не превратилась в урок, в школу, и одно душевное состояние не держалось боязливо и послушно за другое, он отвергает бледные услуги знания. Душе невместно учиться. Она не должна быть памятливой и озабоченной, она не должна иметь опыта, памяти, истории; душа не система. Отсюда же в конечном счете – и это лермонтовское презрение к яду и гнету просвещения, к науке бесплодной, которая иссушает умы, отсюда – это обычное сетование на то, что в знании – смерть и кара («вечностью и знанием наказан»). И апофеоз бесследности создавал в поэте странную иллюзию, будто есть гнетущий избыток знания там, где оно вовсе отсутствовало: «Лермонтову казалось, что многие влачат на себе груз науки и ею заслонили от себя солнце непосредственной и действительной жизни. Для науки характерны именно связи, следы, а певец небесных тучек, космических пилигримов, не хотел следов».
Но бесследность является только желанием, и в сердцах лермонтовских героев, в помнящих людских сердцах, она не может находить себе полного осуществления. Напротив, человек историчен; напротив, тот же безучастный и беспечный Печорин, которому «прошедшего не жаль», сознается, что оно приобретает над ним беспримерную власть: «Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою Душу и извлекает из нее все те же звуки… я глупо создан: ничего не забываю – ничего!» Ничего не забывает и Демон. А Мцыри даже и погиб от того, что не мог забыть своего детства, своей воли.
Что прошло, не бывшим сделать вновь
Кто под луной умеет?
Таким образом, душа оказывается ареной, на которой связанность и бесследность ведут между собою ожесточенную, роковую борьбу. Можно ли не помнить, в человеческих ли силах «незабвенное забыть», отрешиться от своей душевной истории и каждый раз начинать жизнь свежую и свободную?
И от души какая может власть
Отсечь ее мучительную часть?
Душу нельзя ампутировать. Если даже великим напряжением воли будут спугнуты призраки прошлого, все же останется от него безнадежная усталость и безочарование Забвение и память будут попеременно одерживать свои трудные победы, и одинаково будет страдать разрываемая ими душа. Этот раскол во всей его глубине чувствуют герои Лермонтова. Они страстно хотят бесследности – между тем «все в мире есть: забвенья только нет». Ради нее принимают они нечеловеческие формы, потому что она идет за пределы человеческого: они становятся демонами и дивами или, по крайней мере, надевают на себя их красивые личины, завидуя вечной молодости и безмятежности небожителей. Они точно пишут на своем знамени: homo sum et nihil divini a me alienum esse puto (Я человек и ничто божественное мне не чуждо (лат.)). Они хотели бы всю жизнь воплотить в одно неповторяющееся мгновение, которое бы молниеносно вспыхнуло и бесследно сожгло их в своем пламени. «Если б меня спросили, – говорит Печорин в „Княгине Литовской“, – чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья, я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновение и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам, в промежутках скуки и печали».
Вот это божественное мгновение, противопоставленное длительности и вечности, вырванное из «промежутков скуки и печали», составляет один из любимых мотивов нашего поэта. Творец из лучшего эфира соткал живые струны таких душ,
Которых жизнь – одно мгновенье
Неизъяснимого мученья,
Недосягаемых утех.
Пусть с трепетом любви остановится на мне взор моей прекрасной,
Чтоб роковое вспоминанье
Я в настоящем утопил
И все свое существованье
В единый миг переселил.
Божественное мгновение стоит вечности:
Мгновение вместе мы были,
Но вечность – ничто перед ним;
Все чувства мы вдруг истощили,
Сожгли поцелуем одним.
Азраил «за миг столетьями казнен»; мгновенна была дивная песнь Литвинки с ее лютней, ничто не может заменить «мгновенной дружбы меж бурным сердцем и грозой», и, с другой стороны,
Есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Жизнь важна и ценна не в своем количестве, а в своей напряженности, и две тихие жизни променял бы Мцыри на одну – «но только полную тревог». Демон живет века, но эту вечность он отдал бы Тамаре за миг любви, как за ночь любви другой Тамаре отдают путники свою жизнь. Ибо жизнь понята как безусловное и бесследное мгновение. Вечность меньше мига.
Лермонтов глубоко любит это состояние нравственной тревоги и беспокойства, эти молнии души, эти грозы и угрозы, напряженную страстность минуты. Он знает, что такое избыток силы и крови. Все яркое, кипучее, огненное желанно и дорого ему. Он чувствует, что можно отдать целые века за искрометный миг единственного ощущения. И вот почему Кавказ, где все горит и трепещет, где все живет усиленной и роскошной жизнью, где высятся гордые горы, эти «пирамиды природы», – Кавказ является родною страной его жаждущему духу; Кавказ ему к лицу:
Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы.
Его кавказские легенды рисуют тамошнюю жизнь как сплошное приключение. Но и весь мир вообще для Лермонтова – какой-то моральный Кавказ, где нет будничной, удобной безопасности, тишины и покоя. В одно мгновение здесь может все измениться, и потому каждое мгновение интересно, загадочно и тревожно; здесь редко бывает естественная смерть; удар кинжала, выстрел, «злая пуля осетина» в любую минуту прерывает шумные и бранные дни, и человек «весь превратится в слово нет». Всякий может здесь сказать про себя: «Конь мой бежит – и никто им не правит», и конь этот – «седой летун» времени с его безудержным порывом. Время – ветер. В этой очарованной стране страстей «бушует вечная метель» несговорчивых человеческих желаний; люди не знают мира и ничего не уступают друг другу, брат идет на брата, мать проклинает сына, если он бежит от опасных мгновений.
Здесь «мщение – царь в душах людей» —
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал.
Так часто в этой экзотической раме выступают непреклонные мстители, и даже Пушкин умер «с глубокой жаждой мщенья», как это и подобает поэту, который именно «на голос мщенья» должен вырывать из ножен кинжал своего прекрасного гнева. Но ведь кто мстит, те помнят, и все эти могучие Орши, Хаджи-Абреки, Литвинки, Арбенины и Вадимы, все эти неумолимые каллы (убийцы), воплощая собою разлад свободы и связанности, не только не отрешены от прошлого, но в этом смысле именно ради прошлого и живут, не только не поднимаются до облачных высот невозмутимой бесследности, но сладострастно и упоенно проводят в своей душе и в мире самые яркие следы – кровавые следы мести.
Здесь много песни и пляски, много радости и любви. Но именно потому, что жизнь обладает здесь такою стремительностью и полнотой, она мгновенно превращается в смерть. Пляска жизни и пляска смерти граничат между собою. Никогда жизнь не вспыхивает таким сильным и сосредоточенным пламенем, как если она посмотрит в глаза смерти. Оттого эти пламенные люди, эти неспокойные и неоседлые горцы, живущие на высоте орлов, эти живописные всадники царственных коней, делают из своего существования удалую войну: «война – их рай, а мир – их ад». Они «чихирь и мед кинжалом просят и пулей платят за пшено». Они не любят средины между жизнью и смертью, они дышат или полной грудью, или совсем перестают дышать. Они играют и своей и чужой жизнью, стремятся «от душных келий и молитв в тот чудный край тревог и битв», потому что в несравненные мгновения боевой схватки переживают какую-то оргию душевных сил и душевной радости: в один и тот же миг они достигают вершины своего бытия и низвергаются в самую пучину смерти.
Но чувства их бессмертны. Умирает тело, но не страсть. В той жизни надо дочувствовать эту. Разлуки нет. Земные страсти переносятся в могилу, и слышен из нее ревнивый, неуспокоенный голос:
Ты не должна любить другого —
Нет, не должна!
И требует любовник, чтобы и за пределами земного мира возлюбленная покинула для него свои райские селения и, ангел, вернулась к нему, демону:
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне – вселенной.
Однако вполне ли подобает самому Лермонтову жить в этой стране повышенной жизни? С «увядшими мечтами», с умом охлажденным и недоверчивым, с иронией в утомленном сердце – что ему делать там, «где гнезда вьют одни орлы, где тучи бродят караваном», где все наивно и цельно, где дышит стихийная непосредственность? Доктор Вернер – на Кавказе; не звучит ли это странно и противоречиво? И другу Вернера, Печорину, и другу Печорина, Лермонтову, не могли разве сказать горцы того же, что сказали они Измаилу-Бею, в котором не признали брата:
Зачем в страну, где все так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0