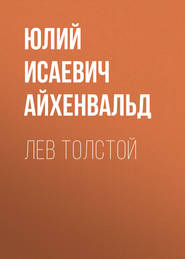По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полонский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не туго натянуты струны на инструменте его бледной души, опускается на него «тяжкая, сонная лень»; нет горения, нет резких и мужественных черт, что-то расплывается, и ни одно чувство не доведено до конца, до своей психологической глубины. Как это ни странно, Полонский любил Кавказ, любил море, стихии от него далекие, и море описывал он прекрасно и правдиво – до звукоподражания, с такой энергией и выразительностью:
Волны мчатся, волны ропщут,
Волны, злясь, друг друга топчут
И опять встают и блещут,
И в утес сердито хлещут.
Но вот очень его характеризуют прекрасные стихотворения, посвященные Кавказу, «Тифлису многобалконному»: они живописны, колоритны, ярки; однако, хотя боевое и доносится до них, хотя и говорит Полонский:
В стороне слышу карканье ворона,
Различаю впотьмах труп коня…
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня, —
все-таки больше всего развертывается там не Кавказ лермонтовский, бурный и дикий, а Кавказ-быт. И спокойно совершал Полонский свою прогулку по улицам Тифлиса. Можно сказать, что Полонский Кавказ усмирил, покорил его, обезопасил.
Так же характерна для него форма и степень той отзывчивости, с которой он относится к политическим злобам дня – своего и чужого. Он откликается на них, но в своем ленивом и неуместном добродушии, в своей недеятельной доброте сам не хочет особенно разбираться в народных волнениях; ему только неприятно, что люди ссорятся, шумят, проливают кровь, а сам он, на правах поэта, не вмешивается и не имеет собственного, определенного мнения. Он вообще – человек и поэт без собственного мнения. Он не вождь, а ведомый.
И это тоже для него показательно, что, когда он приветливо и ласково отзывается о политических борцах, о жертвах общественной неправды, он преимущественно имеет в виду женщин; их замечает он, их славит, – именно женский подвиг дорог ему: сочетание силы и мягкости. И оттого – эти человечески драгоценные строки, за которые многое простится Полонскому: «что мне она, не жена, не любовница и не родная мне дочь», – это участие к девушке, проклятая доля которой спать не дает ему ночь; и оттого – сердечный рассказ о другой девушке, которую в 1871 году расстреляли на улицах Парижа: «дочь нужды, дитя народа», она, вся весенняя, так не хотела умирать в это весеннее утро, когда реяли голуби, – «о, как глупо умереть мне в эту чудную погоду»; и оттого – все другие его симпатические отклики на горе тружениц, ищущих, любящих. С другой стороны, свойственное ему отсутствие напряженности и энергии не делает и его шовинистских мотивов резкими и неприятными, каковы они, например, у Майкова.
Эта незлобивость Полонского тяготила его самого, и он, в противоположность Некрасову, славил озлобленного поэта, завидовал ему, хотел ожесточенья и гнева, – но их не дано было ему познать. Был он и сам сатирик, но не страстный. Любил он Гейне, видел те же романтические сны, что и он, те же похороны сердца, то же нереальное царство и мир, как огромный гроб с роскошно золоченой бляхой солнечного диска, – но Полонский был Гейне без его жала. И так до конца жизни остался он чужд повышенного строя, остался певцом духа уступившего, незлобного, но непригодного и к подвигу. Ласкающим шепотом своих листьев осина погружает в сон молодой героический дубок. «Я – точно личность без лица», – говорит Полонский. Он часто сам не знал, чего ему хотеть, к чему стремиться, и какой-то вялой, неуверенной поступью двигался по жизни.
Я сам не знаю, где я еду…
Но каждый путь ведет к концу.
Он, так поэтично воспевший дорогу и дорогу железную («мчится, мчится железный конек»), – он сам жаловался на бездорожье и все-таки плелся куда-то вслед за другими, и его ямщик слегка постегивал кляч его негероической колесницы. Так много спевший на своем веку, он горевал, что про черный день у него нет песни, и без лебединой песни умирает у него лебедь. И в конце концов он стал поэтом больной старости, разочарованной, унылой, когда надорваны струны и силы. Он написал стихотворение о выжатых лимонах.
Горе человека, который едет сам не зная куда и утешает себя только тем, что каждый путь имеет конец, – это горе не было для Полонского трагедией, потому что на трагедию он вообще не был способен. Его пессимизм был выносим. Он мог жить просто по инерции – без веры и без неверия. Он привык к жизни. Она часто рисовалась ему как бестолковая, беспутная, как одно огромное «некстати», но он продолжал ее. Шар земли погружал его то в темную бездну, то в светлую бездну, и Полонский не верил мраку, не верил и свету. Его смирение побуждало его среди трепета жизненной качки вверять себя Богу, но оно не дышало молитвенностью истинного, религиозного отречения. Он исповедовал, что жизнь без Христа – случайный сон; но его скудная вера не отрастила себе крыльев. Так, бескрылый, он и прожил долгую жизнь. И в ее продолжение, в ее «серые годы», не успел он закончить свою душу, так что у него не однажды слышится надежда на смерть, которая «со всего заветного сорвет покров» и выявит недосказанные слова, яркими светилами зажжет пока еще туманные мысли; за жизнь сделает смерть.
В своей житейской неодносторонности, в своей душевной бесстильности Полонский так похож на других, – он всем доступен, всем по плечу, не скован никаким определением, которое обязывало бы его и других, и это он виноват, что о нем нельзя говорить без оговорок. Он не требователен. Как и сам он, никто не обязан иметь душу богатую, кипучую, искрометную. И многие, как он, согласны жить без ответа на жизнь и просто отдаваться ее ленивому течению.
Но то, что его от других отличает, это прежде всего мгновения творчества: он подолгу бездействовал, но ему было от чего отдыхать.
И, слагая ношу, села отдыхать
Бывшая рабыня – будущая мать —
так сказал он про Агарь, ту самую, которой обещал ангел, что она родит сына, «силу многих сил»; после этого обетования
… с отрадой в сердце начала вставать
Бывшая рабыня – будущая мать.
Ибо мать уже не рабыня: где творчество, там свобода. Вот и Полонский, творя, освобождался от своей обыкновенности, от рабства телу и жизни, от хромоты одноименного ему Иакова.
И кроме того, почти все, что он создавал, было, как мы уже знаем, согрето внутренним теплом задушевности. Он – поэт милого. Конечно, задушевное – это не самое яркое, на что способна человеческая душа и чего мы особенно вправе требовать от души поэта; конечно, задушевное обитает не на высотах. Но ведь и мы сам их не достигаем, ведь и для нас вершины мира и духа теряются в далеком величии облаков и снега; и чем дольше живешь, тем сильнее начинаешь дорожить такою простой и в то же время редкой ценностью, как приветливая ласка и любезность. В холоде жизни так хочется теплоты. И собственный и чужой героизм, все эти дерзкие мечтания молодости, рассеялись в прах, и после многих приключений, смешных и трагических, после парений и падений лучшее, что может, если смеет, сказать о себе сраженный рыцарь, – это предсмертное слово благородного чудака: полноте, друзья мои, какой же я Дон Кихот Ламанчский? Нет, я просто – Алонсо Добрый…
Волны мчатся, волны ропщут,
Волны, злясь, друг друга топчут
И опять встают и блещут,
И в утес сердито хлещут.
Но вот очень его характеризуют прекрасные стихотворения, посвященные Кавказу, «Тифлису многобалконному»: они живописны, колоритны, ярки; однако, хотя боевое и доносится до них, хотя и говорит Полонский:
В стороне слышу карканье ворона,
Различаю впотьмах труп коня…
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня, —
все-таки больше всего развертывается там не Кавказ лермонтовский, бурный и дикий, а Кавказ-быт. И спокойно совершал Полонский свою прогулку по улицам Тифлиса. Можно сказать, что Полонский Кавказ усмирил, покорил его, обезопасил.
Так же характерна для него форма и степень той отзывчивости, с которой он относится к политическим злобам дня – своего и чужого. Он откликается на них, но в своем ленивом и неуместном добродушии, в своей недеятельной доброте сам не хочет особенно разбираться в народных волнениях; ему только неприятно, что люди ссорятся, шумят, проливают кровь, а сам он, на правах поэта, не вмешивается и не имеет собственного, определенного мнения. Он вообще – человек и поэт без собственного мнения. Он не вождь, а ведомый.
И это тоже для него показательно, что, когда он приветливо и ласково отзывается о политических борцах, о жертвах общественной неправды, он преимущественно имеет в виду женщин; их замечает он, их славит, – именно женский подвиг дорог ему: сочетание силы и мягкости. И оттого – эти человечески драгоценные строки, за которые многое простится Полонскому: «что мне она, не жена, не любовница и не родная мне дочь», – это участие к девушке, проклятая доля которой спать не дает ему ночь; и оттого – сердечный рассказ о другой девушке, которую в 1871 году расстреляли на улицах Парижа: «дочь нужды, дитя народа», она, вся весенняя, так не хотела умирать в это весеннее утро, когда реяли голуби, – «о, как глупо умереть мне в эту чудную погоду»; и оттого – все другие его симпатические отклики на горе тружениц, ищущих, любящих. С другой стороны, свойственное ему отсутствие напряженности и энергии не делает и его шовинистских мотивов резкими и неприятными, каковы они, например, у Майкова.
Эта незлобивость Полонского тяготила его самого, и он, в противоположность Некрасову, славил озлобленного поэта, завидовал ему, хотел ожесточенья и гнева, – но их не дано было ему познать. Был он и сам сатирик, но не страстный. Любил он Гейне, видел те же романтические сны, что и он, те же похороны сердца, то же нереальное царство и мир, как огромный гроб с роскошно золоченой бляхой солнечного диска, – но Полонский был Гейне без его жала. И так до конца жизни остался он чужд повышенного строя, остался певцом духа уступившего, незлобного, но непригодного и к подвигу. Ласкающим шепотом своих листьев осина погружает в сон молодой героический дубок. «Я – точно личность без лица», – говорит Полонский. Он часто сам не знал, чего ему хотеть, к чему стремиться, и какой-то вялой, неуверенной поступью двигался по жизни.
Я сам не знаю, где я еду…
Но каждый путь ведет к концу.
Он, так поэтично воспевший дорогу и дорогу железную («мчится, мчится железный конек»), – он сам жаловался на бездорожье и все-таки плелся куда-то вслед за другими, и его ямщик слегка постегивал кляч его негероической колесницы. Так много спевший на своем веку, он горевал, что про черный день у него нет песни, и без лебединой песни умирает у него лебедь. И в конце концов он стал поэтом больной старости, разочарованной, унылой, когда надорваны струны и силы. Он написал стихотворение о выжатых лимонах.
Горе человека, который едет сам не зная куда и утешает себя только тем, что каждый путь имеет конец, – это горе не было для Полонского трагедией, потому что на трагедию он вообще не был способен. Его пессимизм был выносим. Он мог жить просто по инерции – без веры и без неверия. Он привык к жизни. Она часто рисовалась ему как бестолковая, беспутная, как одно огромное «некстати», но он продолжал ее. Шар земли погружал его то в темную бездну, то в светлую бездну, и Полонский не верил мраку, не верил и свету. Его смирение побуждало его среди трепета жизненной качки вверять себя Богу, но оно не дышало молитвенностью истинного, религиозного отречения. Он исповедовал, что жизнь без Христа – случайный сон; но его скудная вера не отрастила себе крыльев. Так, бескрылый, он и прожил долгую жизнь. И в ее продолжение, в ее «серые годы», не успел он закончить свою душу, так что у него не однажды слышится надежда на смерть, которая «со всего заветного сорвет покров» и выявит недосказанные слова, яркими светилами зажжет пока еще туманные мысли; за жизнь сделает смерть.
В своей житейской неодносторонности, в своей душевной бесстильности Полонский так похож на других, – он всем доступен, всем по плечу, не скован никаким определением, которое обязывало бы его и других, и это он виноват, что о нем нельзя говорить без оговорок. Он не требователен. Как и сам он, никто не обязан иметь душу богатую, кипучую, искрометную. И многие, как он, согласны жить без ответа на жизнь и просто отдаваться ее ленивому течению.
Но то, что его от других отличает, это прежде всего мгновения творчества: он подолгу бездействовал, но ему было от чего отдыхать.
И, слагая ношу, села отдыхать
Бывшая рабыня – будущая мать —
так сказал он про Агарь, ту самую, которой обещал ангел, что она родит сына, «силу многих сил»; после этого обетования
… с отрадой в сердце начала вставать
Бывшая рабыня – будущая мать.
Ибо мать уже не рабыня: где творчество, там свобода. Вот и Полонский, творя, освобождался от своей обыкновенности, от рабства телу и жизни, от хромоты одноименного ему Иакова.
И кроме того, почти все, что он создавал, было, как мы уже знаем, согрето внутренним теплом задушевности. Он – поэт милого. Конечно, задушевное – это не самое яркое, на что способна человеческая душа и чего мы особенно вправе требовать от души поэта; конечно, задушевное обитает не на высотах. Но ведь и мы сам их не достигаем, ведь и для нас вершины мира и духа теряются в далеком величии облаков и снега; и чем дольше живешь, тем сильнее начинаешь дорожить такою простой и в то же время редкой ценностью, как приветливая ласка и любезность. В холоде жизни так хочется теплоты. И собственный и чужой героизм, все эти дерзкие мечтания молодости, рассеялись в прах, и после многих приключений, смешных и трагических, после парений и падений лучшее, что может, если смеет, сказать о себе сраженный рыцарь, – это предсмертное слово благородного чудака: полноте, друзья мои, какой же я Дон Кихот Ламанчский? Нет, я просто – Алонсо Добрый…