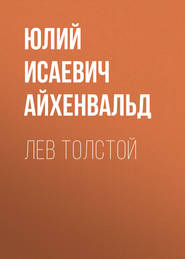По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Некрасов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей…
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой, —
Баю-баю-баю-баю!
Вообще, Некрасов неисчерпаем в своих гимнах материнству, святым слезам его, которые он подсмотрел средь всякой пошлости и прозы. Бьются люди в роковых сечах, – например, на твердынях Севастополя, и боевые кони меняют всадников лихих, «как вдовец жену меняет», – а в это время старая мать всадника бесплодно поджидает его у окна. И Некрасов взывает к ней:
Загородись двойною рамой,
Напрасно горниц не студи,
Простись с надеждою упрямой
И на дорогу не гляди.
И не мать ли это склоняется над несчастной крестьянкой и шепчет ей:
Усни, многокручинная!
Усни, многострадальная! —
та мать, о которой мы в муках вспоминаем, которую крестьянка называет:
День денна моя печальница,
В ночь – ночная богомолица?
Но не каждому человеку в силах помочь родная мать, и оттого с молитвой обращаются и к общей матери мира, Матери Божьей, вечной Dolorosa. О, как ее просят!
Ты видишь все, Владычица!
Ты можешь все, Заступница!
Спаси рабу свою!
И образ родной матери Некрасова выясняется в своем символическом характере, принимает величественные мировые очертания, и вот она уже перед нами как общая мать-природа, как та мать-земля, мать-сыра земля, которую и в буднях города вспоминал и любил ее сын-поэт. Особый смысл получает тяготение Некрасова к матери – это его тоска по природе, тоска по той стихийной родине, которая искупает, быть может, весь ужас и обиду родины тесной и ограниченной – гнезда крепостничества. Оторванный от природы Петербургом, он все возвращается к ней своей мечтою и молитвой. Только она и все, что ей послушно, могут заглушать в нем ненавистную «музыку злобы», типичные для него диссонансы.
И в сердце, которое металось между любовью и ненавистью, между деревней и городом и то уставало питаться злобой, то этой устали стыдилось, мать воцаряла тихую ласку и это характерное для Некрасова доверие к России, к русскому школьнику, умиление перед добротой, перед добрым человеком, – и тогда близки становились ему все эти коробейники, дядюшки Яковы и дедушки Мазаи, утешители сироток, спасители зайцев и пчел. Тогда он обращался к жизни, которую так любил и которая только заслонена была для него мглою Петербурга, непогодой действительности. Он брал у жизни и любил в ней одинаково ее страсть и ее святость. Вспомните, как часты у него мотивы любви, упоение какой-нибудь Любушкой-соседкой, эта высокая рожь, которая должна распрямиться и сохранить тайну влюбленных. Вместе с тем знаменательно для него глубокое поклонение русской женщине за ее высокий подвиг, за то, что она может быть Трубецкой или Волконской; «святая женская душа» была для него действительно алтарем, на который он приносил свои поэтические жертвы, и женщина, которая часто мечталась ему, «вся соразмерная, гордая, стройная», должна именно в Некрасове видеть и чтить певца своей доли. Пусть иногда замечается у него тяжба с женщиной, горечь обиженного мужского сердца, разочарование рыцаря – все же он откликнулся на несчастье женщины, даже на девичью тоску ее, когда она жадно глядит на дорогу за промчавшейся тройкой вослед; он так ласково отнесся к девушке и сказал, что «толпа без красных девушек, что рожь без васильков».
Вот отчего, несмотря на все неверные и негармоничные звуки этой поэзии, мимо нее пройти нельзя, как нельзя миновать свою молодость, когда и личного счастья, всех этих васильков, хочется, и в то же время, заволакивая и отравляя свое счастье, принимаешь неправду жизни близко к чуткому сердцу, которое еще не «согнулось под игом лет», и вместе с поэтом скорбно размышляешь о ней у негостеприимного парадного подъезда.
Некрасов именно поэт отравленный: он – певец нарушенной радости, смущенной жизни, искаженного счастья. Он вовсе не хочет скорби и уныния:
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.
Желанна и понятна ему вся отрада существования, трепетно слышит он, как идет-гудет зеленый шум, весенний шум, чарует его природа, красота, поэзия, – но все это застилают своею безобразной тенью общественная неправда, деревенское и городское неустройство, жизненная лямка разных бурлаков и поденщиков. И для него
Чем солнце ярче, люди веселей,
Тем сердцу сокрушенному больней.
Становится горек самый хлеб жизни, политый чужими слезами, как хлеб той женщины, которая, не имея соли, посолила его для больного ребенка всегда готовой собственной слезою. И оттого восклицает Некрасов:
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок.
Жизнь вообще нейдет Некрасову впрок. Это – его существенная черта как писателя. Говорят, что как человек он своими темами не страдал. Но из его лучших стихотворений этого не видно. И, во всяком случае, не безразличны для поэта его темы: они с ним сживаются, они свое влияние на его внутренний мир оказывают, они его воспитывают. И оттого мы как реальный факт должны принять, что всякая радость поневоле смущена, возмущена для Некрасова, который стоит лицом к лицу, сердцем к сердцу со всеми этими приниженными и огорченными, который знает обиду бабушки Ненилы, и скорбь Орины, матери солдатской, и той старушки, чей сын сплошал на сорок первом медведе, —
Умер, голубушка, умер, Касьяновна,
И не велел долго жить…
Любоваться крестьянскими детьми, их идиллией – это дорого Некрасову; пленяет его вереница их внимательных глаз, серых, карих, синих, смешавшихся, как в поле цветы; он знает, что крестьянские дети – это дети по преимуществу, что как-то сливаются они, наивные, с наивностью самой природы, – но в самом страшном кругу дантовского ада, в самом пекле городской жизни, на фабрике, видит он все тех же детей:
Вы зачем тут, несчастные дети?!
Или хочется молитвы, и храм Божий, над которым реют птицы, пахнул на душу детски чистым чувством веры:
Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем. —
Но рассказ священника из «Кому на Руси жить хорошо» не может содействовать религиозному настроению…
Так плетешься по жизни, усталый от нее и от самого себя, колеблясь между добром и злом, между верой и недоверчивостью, перемежая искры воодушевления рутиной и скукой, не достигая цельности. Некрасов за ее отсутствие себя клеймил – за отсутствие единого служения добру. Но муки его самобичевания претворились для потомства в лишнее поучение, в новый урок социальности.
Обыкновенно после Некрасова идешь дальше в своем художественном развитии, и идешь в другую сторону, – но русский юноша, русский отрок именно у него получали когда-то первые неизгладимые заветы честной мысли и гражданского чувства. Мать поэта права: лучшие песни свои он в самом деле мог бы услышать теперь над Волгой, над Окой, над Камой, потому что, отделив плевелы от его полновесной пшеницы, русский интеллигент близко знает и любит его, тоже поэта-интеллигента, с его сомнениями и нецелостностью. И, доверчивый к своему читателю, не сомневаясь в его общественной отзывчивости, Некрасов дает некоторую отраву личного, но отраву необходимую, потому что она отвлекает от самодовольства и привлекает молодые глаза к «безднам труда и голода», к зияющей лжи людского строя, к неправде и несчастью быта:
…Земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца, —
и она теперь усиленно рыдает, и уже по тому одному Некрасов, поэт болеющей родины, поэт рыдающей России, еще далеко не изжил своего века.
Дар кроткой родины твоей…
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой, —
Баю-баю-баю-баю!
Вообще, Некрасов неисчерпаем в своих гимнах материнству, святым слезам его, которые он подсмотрел средь всякой пошлости и прозы. Бьются люди в роковых сечах, – например, на твердынях Севастополя, и боевые кони меняют всадников лихих, «как вдовец жену меняет», – а в это время старая мать всадника бесплодно поджидает его у окна. И Некрасов взывает к ней:
Загородись двойною рамой,
Напрасно горниц не студи,
Простись с надеждою упрямой
И на дорогу не гляди.
И не мать ли это склоняется над несчастной крестьянкой и шепчет ей:
Усни, многокручинная!
Усни, многострадальная! —
та мать, о которой мы в муках вспоминаем, которую крестьянка называет:
День денна моя печальница,
В ночь – ночная богомолица?
Но не каждому человеку в силах помочь родная мать, и оттого с молитвой обращаются и к общей матери мира, Матери Божьей, вечной Dolorosa. О, как ее просят!
Ты видишь все, Владычица!
Ты можешь все, Заступница!
Спаси рабу свою!
И образ родной матери Некрасова выясняется в своем символическом характере, принимает величественные мировые очертания, и вот она уже перед нами как общая мать-природа, как та мать-земля, мать-сыра земля, которую и в буднях города вспоминал и любил ее сын-поэт. Особый смысл получает тяготение Некрасова к матери – это его тоска по природе, тоска по той стихийной родине, которая искупает, быть может, весь ужас и обиду родины тесной и ограниченной – гнезда крепостничества. Оторванный от природы Петербургом, он все возвращается к ней своей мечтою и молитвой. Только она и все, что ей послушно, могут заглушать в нем ненавистную «музыку злобы», типичные для него диссонансы.
И в сердце, которое металось между любовью и ненавистью, между деревней и городом и то уставало питаться злобой, то этой устали стыдилось, мать воцаряла тихую ласку и это характерное для Некрасова доверие к России, к русскому школьнику, умиление перед добротой, перед добрым человеком, – и тогда близки становились ему все эти коробейники, дядюшки Яковы и дедушки Мазаи, утешители сироток, спасители зайцев и пчел. Тогда он обращался к жизни, которую так любил и которая только заслонена была для него мглою Петербурга, непогодой действительности. Он брал у жизни и любил в ней одинаково ее страсть и ее святость. Вспомните, как часты у него мотивы любви, упоение какой-нибудь Любушкой-соседкой, эта высокая рожь, которая должна распрямиться и сохранить тайну влюбленных. Вместе с тем знаменательно для него глубокое поклонение русской женщине за ее высокий подвиг, за то, что она может быть Трубецкой или Волконской; «святая женская душа» была для него действительно алтарем, на который он приносил свои поэтические жертвы, и женщина, которая часто мечталась ему, «вся соразмерная, гордая, стройная», должна именно в Некрасове видеть и чтить певца своей доли. Пусть иногда замечается у него тяжба с женщиной, горечь обиженного мужского сердца, разочарование рыцаря – все же он откликнулся на несчастье женщины, даже на девичью тоску ее, когда она жадно глядит на дорогу за промчавшейся тройкой вослед; он так ласково отнесся к девушке и сказал, что «толпа без красных девушек, что рожь без васильков».
Вот отчего, несмотря на все неверные и негармоничные звуки этой поэзии, мимо нее пройти нельзя, как нельзя миновать свою молодость, когда и личного счастья, всех этих васильков, хочется, и в то же время, заволакивая и отравляя свое счастье, принимаешь неправду жизни близко к чуткому сердцу, которое еще не «согнулось под игом лет», и вместе с поэтом скорбно размышляешь о ней у негостеприимного парадного подъезда.
Некрасов именно поэт отравленный: он – певец нарушенной радости, смущенной жизни, искаженного счастья. Он вовсе не хочет скорби и уныния:
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.
Желанна и понятна ему вся отрада существования, трепетно слышит он, как идет-гудет зеленый шум, весенний шум, чарует его природа, красота, поэзия, – но все это застилают своею безобразной тенью общественная неправда, деревенское и городское неустройство, жизненная лямка разных бурлаков и поденщиков. И для него
Чем солнце ярче, люди веселей,
Тем сердцу сокрушенному больней.
Становится горек самый хлеб жизни, политый чужими слезами, как хлеб той женщины, которая, не имея соли, посолила его для больного ребенка всегда готовой собственной слезою. И оттого восклицает Некрасов:
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок.
Жизнь вообще нейдет Некрасову впрок. Это – его существенная черта как писателя. Говорят, что как человек он своими темами не страдал. Но из его лучших стихотворений этого не видно. И, во всяком случае, не безразличны для поэта его темы: они с ним сживаются, они свое влияние на его внутренний мир оказывают, они его воспитывают. И оттого мы как реальный факт должны принять, что всякая радость поневоле смущена, возмущена для Некрасова, который стоит лицом к лицу, сердцем к сердцу со всеми этими приниженными и огорченными, который знает обиду бабушки Ненилы, и скорбь Орины, матери солдатской, и той старушки, чей сын сплошал на сорок первом медведе, —
Умер, голубушка, умер, Касьяновна,
И не велел долго жить…
Любоваться крестьянскими детьми, их идиллией – это дорого Некрасову; пленяет его вереница их внимательных глаз, серых, карих, синих, смешавшихся, как в поле цветы; он знает, что крестьянские дети – это дети по преимуществу, что как-то сливаются они, наивные, с наивностью самой природы, – но в самом страшном кругу дантовского ада, в самом пекле городской жизни, на фабрике, видит он все тех же детей:
Вы зачем тут, несчастные дети?!
Или хочется молитвы, и храм Божий, над которым реют птицы, пахнул на душу детски чистым чувством веры:
Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем. —
Но рассказ священника из «Кому на Руси жить хорошо» не может содействовать религиозному настроению…
Так плетешься по жизни, усталый от нее и от самого себя, колеблясь между добром и злом, между верой и недоверчивостью, перемежая искры воодушевления рутиной и скукой, не достигая цельности. Некрасов за ее отсутствие себя клеймил – за отсутствие единого служения добру. Но муки его самобичевания претворились для потомства в лишнее поучение, в новый урок социальности.
Обыкновенно после Некрасова идешь дальше в своем художественном развитии, и идешь в другую сторону, – но русский юноша, русский отрок именно у него получали когда-то первые неизгладимые заветы честной мысли и гражданского чувства. Мать поэта права: лучшие песни свои он в самом деле мог бы услышать теперь над Волгой, над Окой, над Камой, потому что, отделив плевелы от его полновесной пшеницы, русский интеллигент близко знает и любит его, тоже поэта-интеллигента, с его сомнениями и нецелостностью. И, доверчивый к своему читателю, не сомневаясь в его общественной отзывчивости, Некрасов дает некоторую отраву личного, но отраву необходимую, потому что она отвлекает от самодовольства и привлекает молодые глаза к «безднам труда и голода», к зияющей лжи людского строя, к неправде и несчастью быта:
…Земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца, —
и она теперь усиленно рыдает, и уже по тому одному Некрасов, поэт болеющей родины, поэт рыдающей России, еще далеко не изжил своего века.
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0