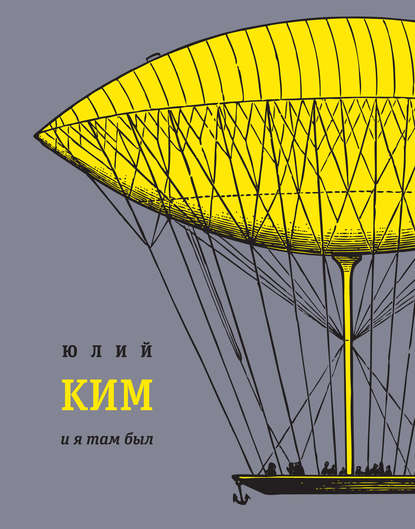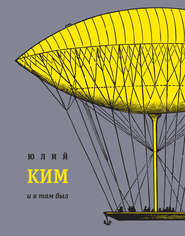По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
И я там был
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Замазать хочешь? – и наливает полстакана спирта.
– Нет, не хочу.
– Ну, черт с тобой, – и выпивает.
– Кончай психовать, говори, что натворил.
– Вчера в том бараке я опять окно выбил. По пьянке. Они кричат, что я угрожал зарезать кого-то там, брешут, суки, они мне все там даром не нужны, мараться об них… Но все равно: был год условно – теперь будет безусловно. Только вот им, а не год!
– Да-а-а…
– Пароход сейчас отходит, в Питер – проводишь? В Питере у меня кореш один есть… как-нибудь… А, все чепуха, только бы уехать отсюда, хоть к чертовой бабушке, только бы уехать! Проклятый комбинат, проклятый спирт, все проклятое! В задницу! Идем.
На пирсе, прощаясь, сказал опять:
– Значит, Надюхе передашь? Я ей напишу. Ну все, пока.
Ночная погоня
Что нет людей одинаковых – истина довольно пошлая, но весьма удобная для бойкого пера. Нынешние комсомольские борзописцы ужасно любят ее доказывать. «Это был, – коварно начинают они, после того как “впервые я увидел его…”, – это был обыкновенный молодой человек…» В конце концов оказывается, что он грудью заслонил скотный двор и что герои среди нас, и опять несчасную старуху Изергиль вытаскивают на свет божий докладывать, что в жизни всегда есть место подвигу.
И однако даже тот, кто полностью усвоил, что каждый человек по-своему неординарен, узнав нашего Толика, воскликнул бы: «Вот необыкновенный человек!» – и мир для него разделился бы на Толика и «остальных», ибо Толик наш Федоров был действительно человек редкостный.
Если вы, например, впервые прибыли в Аначики и, плача, стоите на пирсе посреди мешков и узлов, не зная, куда идти, и помирая от усталости, – ваше счастье, если на вас наткнется Толик. Мгновение – и весь ваш скарб вместе с вашей жалкой личностью святым духом перенесется к нему, к Толику. А он уже, глядишь, занят печкой, чаем, всяческой жратвой. Бах – и вы сыты. Трах – и вы уже в постели, где, бормоча, как заклинание, «спасибо», «извиняюсь», засыпаете мертвецки – а Толик уже сидит за столом и печатает фотокарточки для стенгазеты.
Если же вы, наоборот, уезжаете, а вас провожает Толик, то можете равнодушно пнуть свои мешки с узлами ногой и идти выпивать с друзьями – узлы ваши тут же уплывут на Толике в узкие коридоры вокзалов сквозь непроходимую толпу и доплывут в сохранности до вагона, а сам Толик в очереди целующихся с вами будет последним – чтобы не мешать. А когда подойдет его очередь, он поцелует и шепнет: «Пойди к мамке, видишь – чуть не плачет».
Спортивный, легкий, улыбающийся ангел, святая душа – наш Толик. Ел только в столовой и то не всегда – дома же за стол его не усадишь: «Да я уже, ей-богу, такой борщ сегодня, знаешь!» – «Да столовая-то сегодня закрыта». – «И потом у нас в буфете пирожков ка-ак купил! С повидлом, горяченькие – эх!» И вдруг залотошится-залотошится – и нет его, исчез.
Когда входишь к нему в его каморку, он вскакивает и начинает быстро-быстро бегать вокруг – махнет веничком, сто раз подвинет стул, сгребет ногой под кровать какой-то мусор, носки, туфли. «Да брось ты, Толик! Я же тебе не премьер-министр». – «Сейчас, сейчас, – наконец сел, улыбнулся. – Вот, елки, вчера подметал – откуда набирается?»
Меня даже иной раз бесило это ангельское абсолютное забвение себя… «Толик, айда в кино». – «Не могу, стенгазету надо». – «Толик, айда выпьем». – «Не могу, киномеханик просил помочь». – «Толик, айда…» – «Не могу, я должен…» Никто не должен, он должен.
Очень! Очень приятно делать людям добро, да не всегда хочется. Но нам постоянно хотелось Толика облагодетельствовать. Не умеющие так, как он, – мы любили его отечески. Являешься к нему в компании друзей, вооруженных топорами, Толик выпархивает на крылечко: «Ой, братцы, да вы что?» – «А ништо. Это твои дровишки?» – «Да не надо! Да я сам! Да вы бы лучше…» – «Ладно, ладно, – говорит Саня, – закрой свой хлебоприемник». – «Лучше сбегай вон за пузырьком», – добавляет Пеца и протягивает трешку. И такое у Толика на лице изумление, что, оказывается, не только он о человечестве, но и человечество о нем может озаботиться, что даже обидно.
Была одна история, которую Толик терпеть не может вспоминать. Вечером в субботу я сижу, читаю; вдруг – топот, вваливаются Саня и Пеца, у обоих на лицах торжественный гнев: «Айда к клубу, там Толика избили».
Дивная ночь стояла, камчатская полнокровная ночь: луна, скрипящий снег, нежнейший воздух, одуряющая чистота и тишина. Все под ясной луной одинаково красиво, даже грязь. А море – черт возьми, море… это какой-то гипноз красоты и задумчивости, а не море – и все вокруг заворожено какой-то одной неслыханной нотой, которую тянет луна, а нам не слышно. Лучшие побуждения, высокие помыслы и чистую любовь порождает такая ночь в человеке.
Мы же мчались по улице, исполненные самого благородного желания набить морду.
Навстречу медленно движутся человек десять, в основном дамы: Толика провожают до больницы. Он рукой прижимает правый глаз, из-под пальцев капает.
– Кто?
– Шинкаренок Лешка.
– За что?
– Да он бухой пришел на танцы, зашумел, ну, Толик его и пошел выводить, а он шел-шел, вдруг как врежет ему, неожиданно – и ходу.
– Глаз цел?
– В норме. Бровь разбита.
– Толик, как?
– Да ничего, ничего, все в порядке.
– Где он?
– В бараки побежал. Там ребята уже пошли.
– Айда!
О-о-ой, как трудно в такую ясную ночь скрыться, исчезнуть в Аначиках, где все задворки на виду и известны каждому! Трезвея от страха, бежал-ковылял Лешка. То вдруг остановится: «Подумаешь, говна. Ну дал разок, я ему, он мне, велика важность, первый раз, что ли? Да вот возьму и вернусь опять на танцы, и если какая сука пристанет…» Но тут же припускал Лешка дальше, чувствуя, что все не так, что тут какой-то особый случай, ведь этот кореш вроде здоровый парень, и не испугался, не заорал, но и не ударил, а только ахнул и схватился за глаз, а все кругом как-то странно растерялись – другой раз наоборот, сбегутся, подначивают, а тут…
– Сто-ой, падла! – это сзади кричат. – Стой, хуже будет, подлюка!
Давай, давай, чеши, Лешка, не то упадешь – не встанешь. Шапка! Где шапка? Хрен с ней, с шапкой… Матросский ремень свистнул по затылку: «Сука позорная! Толика бить? Нна!»
Мы обегали бараки – никого. Назад. Встречаем галдящую толпу.
«Где он?» – «Отпустили. Сказал: больше не буду». – «Красивый пошел, морда, замучается умываться». – «Ни хера, денька через три поправится, бич долбаный!»
К Толику. Он уже дома. Глаз перевязан толсто и плотно. «Ну как?» – «Да все в порядке, синяк только будет. А я уж испугался, черт те дери, неужели ослепну?» – «Как же это?» – «Да больно уж неожиданно он обернулся, не успел за руку схватить. И он сразу убежал. Хоть убежал ли?»
В сенях нерешительно заскрипела дверь, что-то потопталось и стихло. Насторожившись, выглянули.
Надо же было судьбе сыграть такую шутку! В сенях, покачиваясь, перепутавшись в крови, соплях, слезах, стоял виновник торжества собственной персоной, Шинкаренок Лешка. Поспешное отчаянное бегство занесло его в самое пекло – не знал он, не видел, куда попал спьяну и со страху, приплелся, пожалуйста. Красив он был, ничего не скажешь.
Священный гнев наш несколько поугас. Пеца двинулся к Лешке: «А ну…» – «Стойте!» – крикнул Толик. На лице его, перечеркнутом толстой мертвой повязкой, тоже горели жалость и отвращение, но по-другому, чем у нас: жалел-то он Лешку, как и мы, просто страдал от ужаса, от непоправимости несчастья чужого. А вот отвращение – невольное, сдерживаемое и оттого еще более очевидное – отвращение адресовано было нам, благородным мстителям. Он просто не мог на нас глядеть!
– Пошли, – мрачно буркнул Пеца.
– Отведем его, – успокаивающе сказал Саня.
– Только вы, ребята…
– Ложись, выздоравливай, все будет в ажуре, – торопливо крикнул я и захлопнул дверь. Лешку вывели мы под белы руки на середину улицы, развернули в сторону его бараков и, легонько подтолкнув, сами отправились восвояси.
Вот и не любит Толик вспоминать эту историю – как и другую, с ней же связанную. Это когда приехала корреспондентка.
Итак, она звалась Марина. Очень красивая, с густыми каштановыми волосами. В том смысле красивая, что глаза, улыбка, походка, движения рук – все в ней складывалось удачно.
Пока я хлопотал да бегал около нее, она все оправдывалась своим медленным мягким голосом, почему она зашла ко мне, да кто ей рекомендовал, да если сейчас неудобно, то в другое время, и все улыбаясь виновато: такая, мол, каторжная наша обязанность – тревожить занятых людей. И даже когда я ее усадил и бессменно кипящий чайник свой перед ней водрузил, она все равно, как-то так, без улыбки, по-дружески: «Нет, в самом деле, если вы заняты, я не стану мешать, у меня времени масса…» – на что я, пижон, снисходительно заметил: «Был бы я занят, так прямо бы и сказал». Для начала она сообщила, что так и не научилась брать интервью, как положено: задавать бесцеремонные вопросы и получать церемонные ответы – ей нравится, когда беседа получается сама собой, непринужденно и доверительно. А я слушал и представлял себе ее одинокое путешествие по зимней Камчатке, еще хорошо, если все время самолетом – а на нартах? а подвыпившие бичи с приставаниями? а одиночество в гостиницах так называемых? Да и вообще – каким духом занесло ее в наш камчатский Питер с университетской скамьи, да сразу и унесло колесить по северам, да еще зимой? Уж не из романтиков ли дальних дорог она происходит?
Да нет, не из них. Была на целине раз, в походах раза три, а так все в Крыму да в Прибалтике, с отцом, на машине.