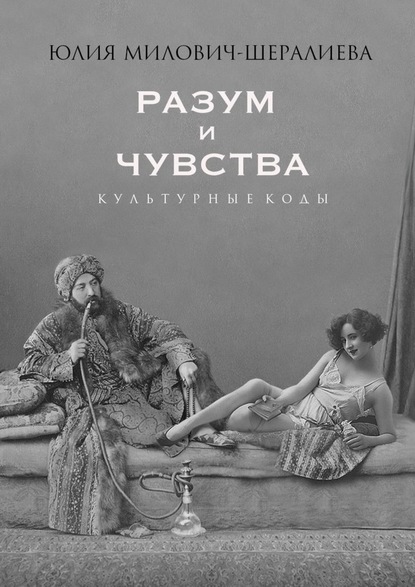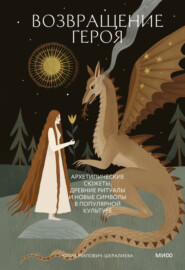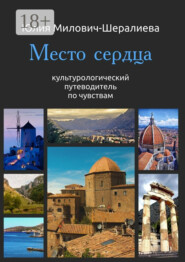По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разум и чувства. Культурные коды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Беспредметная красота
Музыку слушают без счета, тогда как кино или книги хватает на раз-другой, в редких случаях – больше. Вероятно, дело в сюжетности, которой насыщен роман или фильм, в относительно ровной линии, сопутствовать которой раз за разом все же не столь увлекательно. Это как снова и снова проходить один и тот же маршрут. В музыке же мы ищем – и находим! – настроение, искомое состояние, достигнув которого, покидать его уже больше не хочется. Хочется длить и длить, как ласку, как сон, как мечту о рае.
Чувство, которое обретаем, оказываясь внутри композиции музыки, сродни ощущению счастья, найденному по возвращении в родные места, узнаванию облика близкого существа, сразу ставшего дорогим от любви, влюбленности, дружбы. Будучи нелинейной, бессюжетной, музыка погружает в иные, но узнаваемые миры, полные покоя, теплых тяжелых безбрежных вод, смыкающих над нами сладкие свои волны.
Речь о музыке, лишенной скоротечности и замкнутости повода. Скорее, о чем-то вневременном вроде опер, классики вообще, суфийских каввали, в целом – духовной музыке.
Но и романы, и фильмы тоже бывают оказывающими такое воздействие. Так случается, если автор отменил монополию тяжести сюжета, сняв с него эту прикладную, в общем, задачу. И вот, мы имеем дело с кино или книгой, в которых сюжетная линия – никакая не линия, но растворившаяся в сферической сути чувств вспомогательная история. Где сюжет только служит погружению в то искомое чувство, что мы находим, к примеру, в классической музыке (ибо ее сила сопоставима с незыблемой мощью рая, который ищем – в любви, путешествиях или искусстве). И сопоставима с силой природы, отчего не мешает, к примеру, во время прогулки в парке. Наоборот, без нее парк словно опустевает, теряя сестру-близнеца, свою сотворяемую человеком рифму. Гармонично и просто сочетание величия природы и музыки.
…Но и книжки, и фильмы бывают такими же, да. И тогда ты, увлеченный погруженностью в их миры, но отнюдь не сюжетностью, совершаешь противоречивые, в общем, штуки. Одновременно тянешь свое пребывание в фильме или романе, отодвигая ненужное здесь логическое завершение (сюжет-то ведь ни при чем!) – и все же стараешься поскорее явиться к финалу, чтобы достичь кульминации. Выход есть – дочитав, досмотрев что-нибудь столь же страшное, сколь и прекрасное, нездоровое или божественное, принимаешься за него снова. Просто перелистываешь страницу – и заново. И тогда фильм оборачивается несмолкаемой музыкой, книга – прогулкой по парку без устали. Где на все – все равно, лишь бы этот одновременно небесный и рукотворный рай никогда никуда не девался.
Брейгель
Снежная зима в городе – это сразу Брейгель. Вспомните «Зимний пейзаж» и «Ловушка для птиц». Мягкие яркие пятнышки, словно горошки цветного перца, – высыпавшие на горки, дорожки, лед взрослые и дети. Скорей, скорей ухватить эту щедрую зиму, роскошную и настоящую, слиться с ней, самим причаститься этой исконной подлинности. Мир так счастлив, когда что-то являет свою ожидаемую суть. Мгновенно все кругом оживает в этом торжестве единства должного и свершаемого. Будто сцена в театре надолго застыла и вот ожила наконец. Действие продолжается!
И здесь же в памяти – фламандские пословицы, которые словно повторяют сценки на наших снежных ландшафтах. Мизансцены вечные, хоть и меняются постоянно.
Где-то среди них – и мой маленький сынок, моя любовь, затерявшийся среди других чьих-то любовей, мелкий горошек цветного перца. В каждой женщине спит мама, в каждом мужчине она видит и любит того мальчика, которым он когда-то был.
Когда-то и эти полотна окажутся кем-то запечатлены или зафиксированы – согласно актуальным реалиям, возможностям, изобретеньям. Украсят собой рабочие столы чего-то там (если они еще будут), в репродукциях или голограммах. И уже с ними другие дети и взрослые станут сравнивать разноцветных ребят, рассыпанных по замерзшим прудам и горкам. И их поговорки придут им на ум, отождествляя с нашими, как с чем-то архетипичным, старинным, древним. И так по кругу, пока мы любим друг в друге тех детей, которыми мы когда-то были.
Бродский. Космический странник
24 мая 1940 года в Ленинграде родился Иосиф Александрович Бродский. Многие считают, что знаменитый Серебряный век поэзии кончился не в 1920-х гг., а именно с его смертью. Чутко воспринятая им школа русской поэзии от Золотого пушкинского века до века Серебряного (в том числе в лице тепло дружившей с ним Ахматовой) сполна отозвалась в тонком и глубоком гении Бродского.
Большая радость, что такое явление отметило именно русскую поэзию. При этом немудрено, что вобравший в себя весь многообразный и синтетический ХХ век Бродский был билингвой.
Хотя, на первый взгляд, билингвизм, полноправное владение двумя литературными языками, больше подходит предшественнику, «старшему товарищу» Бродского – Набокову. Набоков – тоже дитя эха времени «до» СССР и как бы во время него, но и со взглядом на эпоху со стороны, извне. Набоков тоже был отмечен печатью этой эпохи, оставаясь от нее удивительно свободным. Но билингвизм Набокова – отметина связующего звена между позапрошлым веком и прошлым. Тогда как билингвизм Бродского отлично вписывается во вневременное и внепространственное шествие в целом, в масштабе космоса и условной вечности.
Ибо зачем ему сковывать себя даже двумя эпохами и, главное, свой гений, одним-единственным языком? Когда можно обратиться к двум – каждый из которых, по сути, является универсальным для метрополии и бывших колоний, в случае с английским языком и для России и стран бывшего Союза – с русским.
Эта универсальность видится в масштабе поистине шекспировском. Когда кажется невозможным принять факт того, что такое количественное и качественное разнообразие образов и парадигм рождается в сознании единственного человека. Когда уровень погружения в каждую из представленных эпох (а Бродский повествует о Средневековье, Античности, Возрождении, временах Христа и так далее) достоин специалиста по любой из них. Жил бы Бродский во времена Возрождения, с его тайнами, мистицизмом и, главное, возможностью мистификаций, его бы тоже наверняка принимали бы за отряд непрерывно пишущих эрудитов в бесчисленном множестве областей знаний.
Бродский весь был свободой от места и времени, он даже ритм и рифму стиха от этого освободил, выстроив непривычный порядок слов и строф. Он, как Франциск Ассизский, что подобно пантеистам Востока наделил частичкой божественного не только существ, но и состояния (брат Солнце, сестра Тишина), раздвинул рамки и границы зримого.
Несмотря на непосредственное произрастание из среды «шестидесятников», он был их полной противоположностью. Не певцом времени, а певцом освобождения от него. Как и от пространства. Отсюда и кажущийся нелогичным для еврея католицизм (и каждый год к католическому Рождеству – очередной шедевр о Нем. Каждый раз по-новому, неизменно гениально, постоянно – об одном. Об Одном). Ни разу не посетивший (хотя приглашали) Святую Землю еврей-католик из СССР с гражданством США, нобелевский лауреат. Да просто поэт. Космический путешественник. Ни один ярлык никогда до конца не пристанет, потому что ярлыки – это вообще не про поэтов.
Приятно читать студентам в качестве примера гениального – эссе «Неотправленное письмо». Его легко отыскать, как и общеизвестную (и потому ее нет и не будет здесь) биографию Иосифа Александровича. Просто в нем Бродский изумительно легко, экономно, но роскошно высказывается о так и не состоявшейся реформе русского языка. Филигранно сравнивая по принципу тонкого ковроткачества (нить за нитью буквально каждое предложение тезиса сменяется следующим предложением аргументации) структуру эфемерного, физически неуловимого языка с монументальной и незыблемой мощью архитектуры. Бродский написал его в 1962—1963 гг. Т. е. ему было 22—23 года.
И такое эссе. Это только одно из сонма. Не говоря о стихах и пьесах. Какие уж тут ярлыки?..
Поэтому жаль, конечно, когда так безвременно (на момент смерти Бродскому было 55 лет, а сейчас не было бы и 80) уходят гении. Но на то они и гении, что никуда никогда по-настоящему не уходят. Даже кажется, что особо и не приходили вовсе… Так, прошли мимо, озаряя своей звездой. И идут себе где-то дальше, освещая Вселенную.
Булгаков. Приговор времени и себе
Всякий человек есть дитя взаимного перекрестья своего времени и пространства. Гений потому наиболее ярок и памятен, что его наследие перешагивает сквозь пространства и времена, преодолевает их, пусть и зыбкие, рамки. Михаил Афанасьевич Булгаков – яркий тому пример.
Он родился в мае 1891 г. в Киеве. Вырос в семье врачей и представителей духовенства. Булгаков как мастер создавал новые миры, вместе с тем порою отображая и мир существующий – но сквозь призму собственного восприятия.
А воспринял он многое от своего соотечественника Гоголя, движущегося на волне последнего или, если хотите, предпоследнего дыхания классицизма, этого эха сначала Античности, а затем Просвещения. Гротескность и условность комичных персонажей, утрированно нелепых, просто т. н. «маленьких людей», как и у Гоголя, перемежается у Булгакова глубиной и объемностью их черт.
Все украинские сказки, весь местный фольклор с Гоголем обрел высокохудожественную, а не только метафизическую, эфемерно-дремучую форму. Отныне это не просто волнующая сознание ученого череда архетипов, ситуаций, связей, исторических матриц народа, но и художественное произведение, притом высокого класса. С новым языком, формами и персонажами. Всему этому и наследует спустя полвека Булгаков. Их отличие между собой и в доле русской крови, более склонной к экзистенциальности проживания своего и общего опыта.
В 1916 г. Булгаков становится врачом, и вот тут-то нас поджидают параллели уже с Чеховым. Чехов – тонкий реалист, «доктор» от литературы или литератор в медицине, «врачеватель душ человеческих». Первый пример метафизического смысла слова как лечения – инструмента преобразования искалеченной человеческой личности и, как следствие, судьбы. Исследователь человеческой психологии, особенностей личности в первую очередь и отображатель персоны через действие – во вторую.
Булгаков во время Первой мировой войны работает в прифронтовой зоне. Это уже не чеховские будни с крестьянами и студентами, что, впрочем, само по себе непросто. Чехову было трудно в том смысле, что он был вынужден разрываться между призванием и долгом (а не одно и то же ли это все?..), т. е. между литературой и медициной, в итоге, впрочем, успевая и лечить, и писать. И неимущих пользовать, и зарабатывать, и выдавать сотни рукописей, и издаваться, ставиться на сцене. Этой своей душевной многостаночностью Чехов виртуозно выступал предтечей того, что мир однажды уже окажется не способен придерживаться системы дуализма, требующей какой-то одной ипостаси, роли, выбора. Казалось бы, уже в конце XIX столетия человечество пришло к вершинам достижений науки и техники. Мы еще не отказались от веры, но уже пришли к максимальному пониманию пользы знаний. Самолеты, пароходы, телеграфы, телефоны появились уже. И вдруг посреди всего этого – Первая и Вторая мировые войны. Мы либо сами убивали, либо были убиты, либо смотрели на это, и это были не картины из Откровения Иоанна Богослова.
…В ХХ в. человек более не смог действовать по старой схеме: линейно, сообща, путем воинствующего дуализма. Но это теперь нам становится ясно: подлинное знание лишь доказывает присутствие незримого, нет противоречий. Возможно творить иные миры в литературе, исцеляя представителей мира этого. Быть чувствительным прозаиком, хладнокровным хирургом и тонким юмористом.
Помимо спасения юмором и цинизмом есть и другие способы излечения от того, что ежедневно видят хирурги. Очевидна важность морфия для Булгакова, пристрастившегося к наркотику после заражения дифтеритными пленками в ходе трахеотомии. Это случилось в марте 1917 г. С тех пор он проводит один год на морфии, именуемом сегодня морфином. Его действие вступает в силу уже через несколько минут и длится до восьми часов. Эйфория.
Булгаков – с изломом души, попыткой побега от этого с помощью морфия, с пребыванием в апокалипсическом временном провале начала ХХ века – был никем иным, как примером художественного приговора времени, месту и себе. Той самой личностью, дивным зеркалом отразившей в себе основные приметы времени – предвосхищение катастроф и отмену торжества чего-то одного.
До оторопи ужасна была его повседневность, за которой не надо было спускаться в ад. Победителей уже в его время назвать было трудно. Проигравшие еще не признали себя таковыми.
Все, что он видит, как человек умный и чувствительный, чья чувствительность все-таки трачена морфием, не может носить в себе, не выливая наружу всей глубины и полноты смысла увиденного. Поэтому он много и успешно пишет и издается – в «Гудке», в берлинском «Накануне». Это время фельетонов – краткой и емкой, яркой и содержательной, острой и злободневной формы донесения общественно важных тем. Он пишет «Похождения Чичикова», работает над сатирическим сборником «Дьяволиада». Но после подобного творческого и душевного взлета в 1930 г. Булгаков впадает в опалу: Булгаков страдал, пытался либо добиться снятия опалы, либо эмигрировать – но, мы теперь знаем это наверняка, – безуспешно.
Уйти удалось – пусть не в морок морфия или фантасмагории собственных сюжетов. А только в смерть. Но не в забвение.
Бунин. Художник слова
Великий писатель, тончайший стилист, художник слова. Обедневший дворянин с четырехвековой историей рода, из самого сердца России, самый изысканный аристократический тип. Бунин был весь аристократизмом пропитан, так что порой восхищение им сменяется изумлением, до какой степени эта барская нотка снобизма бывает в нем неприкрыта. С каким эстетством, лишенным эмпатии, он готов живописать босоногих румяных девок, бегающих по морозу… Какой мороз и босые ножки, чему тут восхищаться? Почему не сочувствует он голоногой бедняжке, а восхищается «видеорядом»? Художник в нем вытесняет живую личность, но зато этот художник личность и пережил.
Певец прошлого, неискоренимый поклонник всего того дворянского усадебного быта, с которым спустя 47 лет после его рождения все было покончено. И который медленно, но безостановочно угасал на его глазах.
Его собственный род был известен стране с XV века. Дворянские крови все перемешивались и перемешивались в роду, укрепляя родовое древо, что крепчало, как крепчает терпкое, великолепное красное вино.
Мир дворянства вообще и усадеб в частности угасал для него вовсе не фигурально. Мир дворянский закрывал свои двери в прошлое, запирал, заколачивал, чуя – скоро придет «мужик» и растопчет ножищами хрупкий аристократический раек.
Как и социалисты, мечтавшие о перевороте, грезящие счастьем земли русской, утоптанной теми самими мужицкими ножищами, Бунин ярко верил в торжество иерархии и силы дворянства. Да он даже родился на Большой Дворянской улице в Воронеже… Никто из крайне правых или крайне левых, как всегда бывает с крайностями, не оказался прав. Истина посередине, в смешении языков и кровей, искусств и талантов, которые одни преодолевают и реки дней, и революции, и войны.
Которым Бунин был живой и очень впечатлительный свидетель. В его хроникальных, по сути, романах и повестях предстала живая Россия, которую он (да и мы) так очевидно потеряли. Всю ту тоску, изыск, барскую азиатскую роскошь и тихую прелесть унылых монохромных пейзажей. Так упоительно утрачивая этот мир, Бунин всю жизнь ткал его полотно в своих многоцветных романах, рассказах и повестях.
Бунин мыслил категориями художников – свет, воздух… Поэзия и проза также сосуществуют в любом его тексте. О чем бы он ни писал, он создавал прежде всего зримый образ, давая волю целому потоку ассоциаций, увлекая за собой читателя в яркий мир его восприятия. В этом он предельно щедр, неистощим и в то же время очень точен. Звуковое мастерство его очевидно – умел изобразить явление, вещь, состояние души через звук с прямой векторной силой.
А еще у Бунина женщина – человек. Не куница, не птичка, не овечка, как у Тургенева, и не шлюшка, источник злой страсти, как у Достоевского и у других. Ближе к значительно более других глубокой героине Карениной, которую Толстой в начале создания романа ненавидит и осуждает, а потом любит и оправдывает, что видно по его дневнику. Так, что в конце трагедии она даже внешне преображается, наделяемая пером автора новыми чертами, коих в начале книги не было или они были иными.
Горький писал: «Если скажут о нем: это лучший стилист современности – здесь не будет преувеличения». Он же высказался еще удачней, сравнив Бунина с Левитаном. Это у Левитана мы зрим русский пейзаж не столько с высоты птичьего полета, сколько с точки зрения ангелов. Природа у художника предстает воплощением Божьего замысла, это иконопись в пейзаже. Образ Господа считывается с каждого ландшафтного живописного полотна.
Бунин в прозе делает то же самое. Он являет всю боль и любовь путей Господних, тех самых, что неисповедимы. И читаемы в поэтической бунинской прозе.
Верещагин: Певец войны и солнца
Он всю жизнь любил солнце и любил его живописать. Как любил странствовать и запечатлевать увиденное – в письме или на картинах. Но реальность была вся – войны и беды «от Китая до Болгарии». Впрочем, солнцу у Верещагина даже на страшных изображениях войн место все-таки нашлось.
Художник – всегда комментатор, хроникер, писатель, иногда, если речь о странствиях, то и этнограф. Василий Верещагин был живописцем и известен нам, в общем-то, именно благодаря этой своей ипостаси. Но разве можно отделить в человеке одну его составляющую от другой, от всех остальных? Ведь вряд ли, например, у писателя есть такой особенный писательский сюртук, сняв который, он перестает быть писателем?
Случай Верещагина, который сам по себе был этнограф, хроникер, писатель и комментатор окружавшей его действительности, тем особенно интересен, что все эти качества и свойства оказались умножены именно благодаря тому, что он был наделен даром художника. То есть то, что он художник – усилило все остальное. И оставило нам на память саму возможность (зримую) в его комментариях ко времени и местам, им избранным, увидеть и его этнографические, и исторические, и личные заслуги. Очень по-своему и очень реалистично.