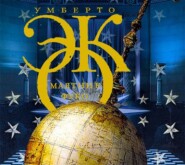По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Таинственное пламя царицы Лоаны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кстати о тараканах, с улицы неслись распевки насекомых, они зудели из сада довольно настырно, и я пошел на двор их послушать. Я задрал голову к небу, ожидая увидеть уже знаемое. Созвездия ведь одинаковы и на небе, и в любом атласе. Я узнал Большую Медведицу, но опять же – угадал по описанию. Стоило ехать в деревню, чтоб уверяться: энциклопедии всегда правы. Redi in interiorem hominem — найдешь Ларусс.
Я повторил себе: Ямбо, твоя память создана из бумаги. Не из нейронов, а из печатных листов. Может, придумают какую-нибудь чертовщину, чтобы компьютер прочитывал все тексты, какие только были написаны от основания мира до сегодня. Все предадутся перелистыванию, все будут жить, нажимая на клавиши, и опять же нажимая на клавиши, и перестанут сознавать, где они сами, кто они суть, – и у всех людей на свете образуется такая память, как сейчас у тебя.
Ожидая, покуда мир переполнится равными мне страдальцами, я отправился почивать.
Только я задремал, как вдруг откуда-то кто-то явственно позвал меня. Кто-то подзывал меня к подоконнику, гугукал настойчиво – «эй! эй!». Кто же это мог быть, кто это, цепляясь за ставни, лез на мое окно? Я рывком откинул засов, двинул ставню – и увидел, как улепетывает белая тень. Следующим утром Амалия пояснила – это был простой сыч. В нежилых зданиях совы и сычи поселяются на карнизах и в водосточных желобах, но как только туда въезжают люди, совы меняют квартиры. А даже жалко. Совушка чуть было не вызвала во мне то самое, что мы с Паолой определили как «таинственное пламя». Ухающий лунь или кто-то из его сородичей, безусловно, принадлежал мне, был частью меня, это они будили меня по ночам, улетали от меня в темноту, эти нескладные, неповоротливые привидения, дурандасы. Дурандасы? Ciulandari? Это слово я не мог вычитать в энциклопедии! Это слово – подарок мне от внутреннего человека. Или из детства.
Спал я неспокойно. Пробуждение сопровождалось сильной болью за грудиной. Первым делом я подумал об инфаркте – знаю, что инфаркты начинаются именно такой болью. Я поднялся и без размышлений взялся за пакет с лекарствами, сложенный в дорогу Паолой. Нашарил «Маалокс». «Маалокс» – от гастрита. Приступ гастрита бывает, если наелся чего-то неположенного. Я же наелся положенного, однако сожрал слишком много. Говорила ведь Паола, надо сдерживать себя. Пока она была рядом, она меня сторожила, теперь надо научиться сторожить себя самому. От Амалии моральной поддержки ожидать бесполезно, по крестьянской философии еды слишком много не бывает, потому что еды бывает только слишком мало.
Учиться мне еще и учиться.
Глава 6
Новый дополненный словарь Melzi
Побывал и в городке. Обратно влезать по косогору было непросто, однако прогулка показалась мне прелестной и бодрящей. Удачно, что я запасся в Милане несколькими блоками «Житан», в этой деревне продают только «Мальборо лайт». Дикие люди.
Рассказал Амалии про сыча и что я спервоначалу принял его за призрак. Она отреагировала с комичной серьезностью:
– Сычи, на них не грешите. Дурных дел сычи не творят. Не то что masche, которые водятся в тех краях, – она махнула в сторону Ланг, – они и до сих пор там живут. Masche, кромешницы. То есть как кто это? Даже рассказывать боязно. А то вы сами не помните, ведь сколько раз толковал вам о кромешницах мой покойный папаша. Но вы не тревожьтесь, к вам, в ваш дом, кромешницам хода нету. Они по ночам пугают простой народ. Господам-то что, те, поди, знают слово, скажут слово кромешнице, и та скачет прочь, только пятки блестят. А все ж они безугомонные и по ночам прибиваются к простым людям, а особо любят туманные и сырые ночи, это для них самая сласть.
Больше она не распространялась на эту тему, но, поскольку был упомянут туман, я спросил, часты ли здесь туманы.
– Туманы? Исусмария, сколько их тут, густющие. Как вот выйдешь, от моей двери не углядеть дорожку, не углядеть ваш флигель, а когда в вашем флигеле живет кто-то, то вечерами тоже бывает, что даже и свет из окна не виднеется или трепещется как лучинка. А бывает, что туман до нас тут не поднимается, но сколько его на тех взгорьях, вы бы видели. Только редко-редко торчит по верхам где курган, где часовенка, а внизу бело, и сзади бело, и вокруг во все стороны непроглядная мга. Будто молоком заливают весь околоток с небес. Коли добудете тут у нас до сентября, вдоволь насмотритесь, потому что у нас в округе, кроме только летних трех месяцев, туман лежит безвыводно. Тут в деревне, внизу, один такой Сальваторе, он не здешний, с какого-то, поди разбери, моря, может, из Неаполя, ну так вот, он приехал сюда батрачить, тому уж наверно двадцать лет, от нищеты прибег сюда, от голода, ну так я про него, что никак не освоится, за двадцать лет не обвык, все говорит, у них там светло и на Крещенье и на Сретенье. Помню, сколько он блукал у нас по полю и даже в ручей уж падал, вытащили, и по ночам ходили разыскивали, спасали его с фонарем. Э, они люди неплохие, врать не стану, а все ж они не такие, как мы.
Я читал про себя:
Е guardai nella valle: era sparito
tutto! sommerso! Era un gran mare piano,
grigio, senz’onde, senza lidi, unito.
E c’era appena, qua e l? lo strano
voc?o di gridi piccoli e selvaggi:
uccelli spersi per quel mondo vano.
E alto, in cielo, scheletri di faggi,
come sospesi, e sogni di rovine
e di silenziosi eremitaggi.
В долине все волшебно изменилось
в единый час! Как будто море вдруг,
побившись в скалы, глянь – угомонилось.
И ничего не слышно – только звук
летучих птичек, незаметных, скромных,
заполнивших собою мир вокруг.
А в небесах скелеты буков томных
как будто бы висят среди руин
скитов молчащих, пустыней укромных.
Как бы то ни было, на данный момент все пустыни и скиты укромные, которые мне доведется повстречать на одинокой дороге, озаряются ярчайшим солнцем – но от этого видимость все равно не лучше, ибо туман копится внутри меня. Не поискать ли истины в затененном мире? Решено. Час настал. Дай наведаюсь в старые комнаты.
Я сказал Амалии, что хочу войти один. Она только подбородком дернула и протянула ключи. Похоже на то, что комнат там уйма и каждая на запоре, потому что Амалия опасается, как бы не залезли. Поэтому она преподнесла мне неохватную связку больших и маленьких ключей, всем своим видом показывая, что ей-то известно, какой ключ от каких дверей, но если я упираюсь и хочу идти наобум, то вольному воля, придется мне копошиться у каждой двери по часу. Подразумевалось: «Ну-ну, попотей же себе на здоровье, коли тебе охота капризничать, как малому дитю».
Утром, по-видимому, Амалия уже успела побывать здесь. Накануне я рассматривал окна снаружи – ставни были замкнуты, а сегодня оказались притворенными, свет через щели просачивался и в коридоры, и в каждую комнату, так что было видно по крайней мере, куда идешь. Амалия, конечно, проветривала время от времени, но воздух все равно был спертый. Не то чтобы совсем удушливый, а так – с затхлостью дерева от древних комодов, с трухой от старых потолочных балок, с лежалостью белых чехлов, окутывающих кресла (не средь таких ли чехлов угасал Ленин?).
Не станем описывать скрип скважин, двадцатикратное опробование ключей, я выглядел неотличимо от старшего дежурного по Алькатрасу. От входа лестница вела в просторные хоромы, что-то вроде парадной приемной, ленинские кресла и какие-то кошмарные пейзажи на стенах, девятнадцатый век, в добротных мясистых рамах. Вкусы дедушки я еще не вполне уяснил, но Паола говорила, что дед был собирателем диковин. Ежели так, эта кошмарная пачкотня не могла быть в дедовом вкусе. Следовательно, картины являлись тяжеловесным семейным наследием – может, прапрапрадед баловался живописью? Благодаря полутьме то, что свисало с карнизов, различалось слабо и нечетко, картины просто ограничивали собою пространство, так что в общем и целом выходило не трагично.
В этой зале с одной стороны имелась балконная дверь (на единственный балкон фасада), а в противоположной стене были двери в симметричные коридоры, правый и левый, которые тянулись по тылу дома и сплошь были увешаны старыми раскрашенными эстампами. В правом коридоре – бессчетные картинки Imagerie d’Epinal: исторические события, «Штурм Александрии», «Осада и обстрел Парижа частями прусской армии», «Грозовые дни Французской революции», «Взятие Пекина войсками союзников». Другие офорты были испанские. Мелкие уродцы – Los Orrelis, обезьяны-музыканты – Colecciоn de monos filarmonicos, мир навыворот – Mundo al revеs. Две аллегорические пирамиды «Жизнь человека», одна про мужчин, другая про женщин, колыбель и дитя в помочах на первой слева ступеньке, затем поэтапный подъем до возраста апофеоза, с цветущими красавцами на самом верху олимпийского пьедестала, оттуда вправо – медленный сход стареющих, все более сгорбленных фигур вплоть до последней правой ступеньки, где, как предсказывала Сфинга, помещаются трехногие – на подламывающихся хромульках и с посохами – подле ожидающей своего часочка Смерти.
Первая дверь из коридора вела в большую старорежимную кухню, с толстенной печью и с огромным очагом, а над очагом висел громадный медный казан. Вся утварь невозможно описать до чего стара – должно быть, висит здесь со времен дедушкиного двоюродного деда. Успела стать антиквариатом. За стеклами буфета виднелись цветастые тарелки, железные кувшины, чашки для кофе с молоком. Какой-то инстинкт велел мне поискать глазами: а где журнальная полка? И точно, в углу около окна была приколочена журнальная полочка с выжженным и раскрашенным орнаментом – крупные красные маки на желтом фоне. Поскольку в войну конечно же был дефицит угля и дров, я думаю, кухня была единственным отапливаемым помещением, и, значит, мною было проведено здесь множество зимних вечеров.
За кухней ванная, тоже старорежимная, посередине громадная железная ванна с изогнутыми клювами – крантиками. Умывальник, в точности чаша из церкви, чаша, полная святой воды. Я крутнул кран, за каскадом рыданий и чихов вытекла рыжая струя, посветлевшая только на третьей минуте. Унитаз и бачок живо напомнили мне туалеты в купальных заведениях времен «бель эпок».
После ванной имелась еще одна дверь – в негусто меблированную комнату с зеленой кроваткой, зеленым столиком, с аппликациями-бабочками, на подушке сидела тряпичная кукла Ленчи, жеманная и надутая, какой и положено быть кукле тридцатых годов. Естественно, это спальня моей сестры, о чем свидетельствовали и какие-то старые платьица в шифоньере, но похоже было, что большинство вещей из этой комнаты вынесли и закрыли ее на хороший замок. Запах только сырости, затхловатости.
После комнаты Ады коридор утыкался в мощный шкаф. В шкафу царил всепроникающий камфорный дух и хранились парадные простыни, с вышивками и мережками, одеяла и стеганые покрывала для семейных одров.
Я вернулся по коридору в центральную залу, проскочил сквозь нее в левый флигель. Тут по стенам висели немецкие эстампы поразительно четких линий, серия «История костюмов»: милые женщины с Борнео и обворожительные яванки, китайские мандарины, хорваты из Шибеника с чубуками невероятной длины и с длиннейшими усами, неаполитанские рыбаки, римские разбойники с пистолями, испанцы из Сеговии и Аликанте, а также исторические персонажи – византийские императоры, папы и рыцари европейского Средневековья, тамплиеры, феодалы и их дамы, евреи-купцы, мушкетеры его величества короля, уланы и гренадеры наполеоновской армии. Немец-гравер изобразил всех своих героев в самых праздничных одеяниях, поэтому не только властители были обвешаны украшениями и вооружены пистолями с изузоренными рукоятками, парадными саблями, и красовались в лучших парчовых епанчах, но даже самый нищий африканец и самый оборванный лаццароне щеголяли яркими кушаками по бедрам, дивными плащами, шляпами с перьями и красочными тюрбанами.
Наверное, еще до приключенческих книг я начал упиваться многоцветьем племен и народностей мира, видя эти гравюры, обрамленные по кромке полей, выцветшие после многих десятилетий на свету, явившие моим очам чистый образец творенья. «Расы и народности земного шара», – повторил я вслух, и внезапно в моем воображении замаячила мохнатая vulva. К чему бы это?
Первая дверь вела в столовую, в конце столовой был выход в уже виденную мной прихожую. Два поддельных под пятнадцатый век буфета с дверками о разноцветных стеклышках, кругленьких и ромбовидных, массивные гнутые табуреты «Савонарола». Антураж «Ужина шуток». Еще и кованый железный фонарь, низко свешивающийся над громадной столешницей. Я бормотнул «каплун и королевские рожки» (сарропе con pasta reale), сам не понимая с чего. Впоследствии я задал этот вопрос Амалии: что это мне как будто помнится каплун с королевскими рожками? Какие «рожки»? Амалия мне все объяснила. Рождественские обеды обязательно включают в себя каплуна с острым и сладким фруктово-горчичным соусом «мостарда», а на первое положено варить бульон из того же каплуна с рожками – то есть с засыпкой из теста, из яичного теста, желтенькие макаронинки, так и тают во рту.
– Нет другого такого лакомства, просто грех, что рожки никто не готовит теперь, королевские рожки, знамо дело, ни рожков не едим, ни короля не чтем, прогнали короля, бедолагу, дали бы мне поговорить с этим дуче, я ему пару слов сказала бы о королях и о рожках!
– Амалия, дуче больше нет, это знают даже те, кто лишился напрочь всей памяти.
– Я в политике не разбираюсь, но помню, что однажды дуче уже прогоняли, а он ништо, все равно назад вернулся. Так что и нынче, послушайте вы меня, он где-то сидит и выжидает. Увидите, когда-нибудь… Да ладно. Вот старый барин, ваш покойный дед, землица ему пухом, каплуна с рожками умел нахваливать, без каплуна с рожками ни одного Рождества при вашем покойном дедушке мы не праздновали.
Каплун и королевские рожки. Значит, я припомнил их в связи с формой столешницы, в связи с низкой лампой, освещавшей трапезу в последние дни декабря? Мне был неведом вкус этих самых рожков, но я припомнил имя. Как будто в игре в «переходы слов». Дается слово, надо из него сделать другое, меняя по одной букве: из моря – гору, то есть море, горе, гора. И выплыли у меня в памяти этот каплун и рожки, как гога и магога.
Вот еще дверь куда-то. Спальня, двуспальная кровать, я инстинктивно замер на пороге этой спальни, будто перед запретной зоной. Силуэты мебели казались огромными в полусумраке, кровать под балдахином возвышалась как алтарь. Может, это спальня моего дедушки, куда соваться нам было запрещено? Где дедушка впоследствии и умер на этой самой кровати, сраженный горем? А где же был я? Попрощался ли я с дедушкой на пороге его смерти?
Дальше еще одна спальня. Но там мебель была совершенно непонятно какой эпохи, вся без углов, из сплошных гнутых линий, псевдобарокко-рококо, и такими же причудливыми были очертания боковых дверец большого зеркального шкафа и комода. Спазм перехватил дыхание, точно так же, как тогда в больнице, когда мне показали фото родителей в день их свадьбы. О, таинственное пламя. Помню, я взялся описывать это ощущение доктору Гратароло, а тот спросил, то ли же это самое, что экстрасистолы. «Наверно, да… – ответил я, – но какой-то горячий спазм при этом охватывает горло». – «Ну тогда нет, потому что, – сказал в ответ профессор Гратароло, – экстрасистолы это совсем другое дело».
Затем я увидел книжку, маленькую, в коричневом переплете, на мраморе правой тумбочки, и подошел взять ее в руки, промычав что-то наподобие riva la filotea. Это на пьемонтском диалекте значит «едет сюда филофея»? Какая-то фея, что ли? Какая-то тайна, и вроде эта тайна томила и мучила меня многие годы, звуча как вопрос на пьемонтском диалекте «Кто, кто едет?» (Sa ca l’? c’la riva?).
Как, разве я на диалекте разговаривал тогда? Какую это фею, кто мне эту фею обещал? Какую филофею?
Я распахнул книгу – так взламывают в безумном порыве священные печати на скрижалях, – книга называлась «Филофея» (La Filotea, то есть «Боголюбие») и была произведением миланского священника Джузеппе Рива (1888). Это был сборник молитв и текстов для духовных упражнений, с календарем церковных праздников и с краткими святцами. Страницы вываливались, листы ломались от самого легкого прикосновения. Я благоговейно уложил страницы и выровнял крышки (как-никак это мое ремесло – приводить в порядок старые книги) и тут увидел на корешке бурый квадрат с золототиснеными буквами Riva La Filotea. Это был чей-то личный молитвенник, который я, видимо, в детстве открывать не решался, а фраза на толстом корешке поддавалась двоякой интерпретации, вот я и понимал ее по-детски, воображая какую-то фею, которая все едет, едет и никак не доедет до нашего дома, не доедет ко мне в гости.
Потом я оглядел комнату – на выгнутых боковинах комода были две створки. Я подкрался к правой створке с биением сердца и потянул на себя, озираясь воровато, как будто страшась быть застигнутым врасплох. Внутри три полочки, опять же кокетливо выгнутые и совершенно пустые. Я волновался, будто что-то воровал. Может, действительно я переживал детское ощущение, к воровству близкое, когда лазил по комодам и шкафам, куда мне вообще-то доступа не было, и любопытство было окрашено греховностью? Да, этим чувством, будто при следственном эксперименте, подтвердилась моя интуитивная догадка, и теперь уже я мог быть совершенно уверен, что спальня принадлежала моим родителям, «Филофея» была маминым молитвенником, а в боковых отсеках комода мне в детстве приводилось нашаривать невесть что запретное – не знаю уж, что там лежало, старые письма, мелкие деньги или такие фотографии, которым не было места в официальных семейных альбомах…
Но если это действительно была их спальня, а Паола говорила, что я родился здесь, в деревенском доме, то, значит, я появился на свет на этой кровати? Что человек не помнит помещение, где он родился, это нормально. Но если учесть, что мне, должно быть, многократно показывали эту затененную комнату со словами: вот, гляди, в этой комнате, на этой кровати, ты был рожден, – если учесть, что я, безусловно, прибегал сюда по ночам и вныривал в постель родителей, где, вероятно, уже отлученный от груди, множество раз втягивал ноздрями запах груди, которая меня вскормила… Ну ведь хоть слабый какой-нибудь намек на воспоминание должен же забрезжить в этой проклятой черепушке! Ишь, размечтался… Мое тело хранило память о доведенных до автоматизма действиях. Коротко говоря, я сумел бы воспроизвести сосательное движение, припав к молочной железе, но тем бы дело и кончилось, я не смог бы сказать, к чьей груди приникаю и что за вкус у этого молока.
Стоило ли рождаться, чтобы потом не помнить? Да и, технически выражаясь, был ли я действительно рожден? О рождении, как и обо всем прочем, проинформировали меня окружающие. А по моим собственным понятиям, я сотворился как личность в конце апреля нынешнего года, в возрасте шестидесяти лет, на больничной койке.
Il signor Pipino nato vecchio e morto bambino. Синьор Пиппати, родился старцем, помер дитятей. Как это? Синьора Пиппати нашли в капусте шестидесятилетним и с длинной белой бородой, дальше идут все его приключения, день ото дня Пиппати молодеет, доходит до юношеского возраста, потом он младенец и наконец переходит в мир иной, испуская свой первый (или последний) младенческий крик. Я эту считалку помню с детских лет… Стоп, ничего подобного, ведь все, что касается детских лет, мне полагалось забыть. Я, скорее всего, нашел этот стихотворный текст как предмет разбора во взрослой книге о мотивной структуре произведений для детей. Разве я не тот, кому известно все о детстве крошки Доррит и ничего – о собственном младенчестве?
Как бы то ни было, я был намерен повоевать за свою автобио в глубинах этих коридоров и довоеваться до того, чтоб перед смертью все-таки узнать, каково было мне младенцем видеть склоненное над кроваткой лицо моей мамы. Ой, а что, если в результате, испуская дух, я сподоблюсь узреть мордатую и усатую акушерку, суровую, как завуч на педсовете?