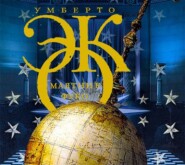По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отсутствующая структура. Введение в семиологию
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это «другое место» и есть отсутствие бытия, которое обязывает нас задаваться вопросами и отвечать.
Не то чтобы мы общались, используя оппозициональные различия как инструмент. Но мы общаемся, «говорим» именно потому, что мы онтологически укоренены в различии.
Эти платоновские мотивы подхватывает Хайдеггер и приходит к радикальным выводам в «Was heisst Denken?». Если в диалектике Присутствия и Отсутствия я – на стороне отсутствия, то я могу описывать присутствие, только «показывая» его. Всякий философский дискурс исходит из Отсутствия. В лучшем случае, как это и происходит у Хайдеггера, мышление должно быть мышлением этого учреждающего меня различения, в котором я познаю Отсутствие, которое я и есть, а не Присутствие, от которого я, по существу, далек, находясь в ДРУГОМ МЕСТЕ.
В этой схватке решающая роль отводится языку. Через него Бытие «раскрывается». Может быть, потому, что язык в качестве метаязыка способен описывать диалектику присутствия и отсутствия? Очевидно, что нет, коль скоро язык (см. Лейбница) на этой диалектике и базируется. Ответ Хайдеггера таков: язык это язык Бытия. Бытие говорит через меня посредством языка. Не я говорю на языке, но меня проговаривает язык.
Идея Бытия, к которому мы имеем доступ только через язык, у Хайдеггера просматривается совершенно очевидно, идея языка, который не во власти человека, потому что не человек думает на каком-то языке, но язык мыслит себя в человеке[1 - Из хайдеггеровских текстов, помимо Гёльдерлин и сущность поэзии, см. Письмо о гуманизме. Путь к языку (Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М, 1993), а также Введение в метафизику. Среди работ общего характера о Хайдеггере (на нее мы в первую очередь и опираемся) см. Vattimo G. Essere, storia е linguaggio in Heidegger, Torino, 1963, особенно главу IV, «Essere e linguaggio».]. И именно плетения языка передают особые отношения человека с бытием.
А это отношения различия и членения. Предмет мысли это Различие как таковое[2 - Cp. Identitat und Differenz, Pfullingen, 1957 (Хайдеггер M. Тождество и различие. M., 1997) – См. Vattimo, cit, р. 151 и целиком гл. V.], различие как различие. Мыслить различие как таковое – это и значит философствовать, признавать зависимость человека от чего-то такого, что именно своим отсутствием его и учреждает, позволяя, однако, постичь себя лишь на путях отрицательного богословия. По Хайдеггеру, «значимость мысли сообщает не то, что она говорит, но то, о чем она умалчивает, выводя это на свет способом, который нельзя назвать высказыванием».
Когда Хайдеггер напоминает нам о том, что вслушиваться в текст, видя в нем самообнаружение бытия, вовсе не означает понимать то, о чем этот текст говорит, но прежде всего то, о чем он не говорит и что все-таки призывает, он выдвигает идею, которую мы находим у многих теоретиков онтологического структурализма, превративших язык в потеху метафор и метонимий. Вопрос «кто говорит?» означает: «кто тот, кто к нам взывает, кто призывает нас к мышлению?» Субъект этого призыва не может быть ни исчерпан, ни охвачен какой-либо дефиницией. Разбираясь с одним на первый взгляд несложным фрагментом Парменида[3 - Was heisst Denken? Niemayer, 1954. Интерпретация парменидовского фрагмента во второй части глав V–XI.], понимаемым обычно, как указывает Хайдеггер, так: «Необходимо говорить и думать, что бытие есть»[4 - Фрагмент гласит (в скобках часть, опущенная Хайдеггером): ??? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ???????????? ??? ?????. Анджело Пасквинелли (I Presocrutici, Torino, 1958) переводит «Из слова и мысли вытекает необходимость того, что бытие есть». Другие переводы: «Говорение и мышление должны быть бытием» (Diels, Parm.), «Могущее быть помысленным и сказанным должно быть» (Burnet), «Необходимо говорить и думать, что только бытие есть» (Vors.).Принятый русский перевод «мыслить и быть одно и то же», см. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М., 1989. С. 287.], он пускает в ход весь набор этимологических ухищрений с целью добиться более глубокого понимания, которое в итоге оказывается чуть ли не противоположным общепринятому толкованию.
«Говорить» превращается в «позволить-встать-перед» в смысле «совлечь покровы», «позволить явиться», а «мыслить» понимается как «озаботиться» и «преданно охранять». Язык дает явиться тому, что мышление должно беречь и пестовать не насилуя, не выпрямляя в сковывающих и умертвляющих дефинициях. И то, чему он позволяет явиться и что берет под охрану, это То самое, что притягивает к себе всякое высказывание и всякое мышление, позволяя им быть. Но это То конституируется как Различие, как то, что никогда не может быть сказано, потому что оно – в истоках всего того, что о нем будет сказано, потому что различие присуще нашим с ним отношениям, Двойственности сущего и Бытия[5 - По Лакану (Еcrits, р. 655) «le drame du sujet dans le verbe, c'est qu'il у fait l'еpreuve de son manque-?-?tre» (Драма субъекта состоит в том, что язык доказывает ему его собственную неукорененность в бытии). У того же Лакана мы обнаруживаем этимологические игры, сходные с теми, что практиковал Хайдеггер в отношении вышеупомянутого изречения Парменида, а именно интерпретацию знаменитого изречения Фрейда «Wo Es war, soll Ich werden» (Там, где было Оно, должно быть Я). Слова Фрейда следует понимать не так, как их обычно понимают (место, где было Оно, должно быть занято Я – Le Moi doit dеloger le ?a), а как раз наоборот в противоположном смысле, сходном с тем, какой придает фрагменту Парменида Хайдеггер. Речь не о том, чтобы рациональная прозрачность Я вытеснила изначальную и темную реальность Оно, но о том, что нужно подступить к тому «месту», выйти на свет именно там, в том изначальном локусе, где пребывает Оно как «место бытия», Kern unseres Wesens (ядро нашего существа). Мир обретается (в ходе как психоаналитического, так и философского лечения, понуждающего меня задаваться вопросом, что такое бытие и что есмь я) только тогда, когда я соглашаюсь с тем, что я – не там, где я обычно обретаюсь, что мое место там, где меня, как правило, нет. Нужно отыскать истоки, признать их своими, liegen lassen, стать их сторожем и хранителем (Lacan, p. 417, 518, 563). И совсем не случайно Лакан приписывает фрейдовскому изречению некую досократическую тональность. Он отсылает к Хайдеггеру «Quand jе parle d'Heidegger ou plut?t quand je le traduis, je m'efforce ? laisser ? la parole qu'il prof?re sa significance souveraine» (Lacan, p. 528) (Когда я говорю о Хайдеггере и тем более когда я его перевожу, все мои усилия направлены на то, чтобы позволить слову высказать свой суверенный смысл).].
Итак, нас проговаривает язык, потому что в языке раскрывается Бытие. Хайдеггер в Einf?rung in die Metaphysik воспроизводит платоновское определение (?????? – ?????? ?? ???? ???? ??? ??????. Софист, 261) и переводит: «Offenbarung in Bezug und im Umkreis des Seins des Seienden auf dem Wege der Verlautbarung», что означает «Раскрытие на пути оглашения, относящееся к бытию сущего и свершающееся в его округе». Таково «имя». В языке свершается явление (Erscheinen) бытия, и истина как ??????? – это этимологически «непотаенность», «состояние несокрытости». Выше в той же самой работе (IV, 2) само бытие определено как такое «выказывание себя», которое чередует потаение, обнаружение и исчезновение, это как вздох и выдох, ритм дыхания, задаваемый исходным различием.
Какие же из всего этого можно сделать выводы? А такие, что языку со всеми своими «именами» и комбинаторными нормами не удается полностью перекрыть означающими все то, что «и так» известно «до» языка. Но это язык всегда «до». Именно он обосновывает все остальное. И следовательно, он не подлежит никаким «позитивным» исследованиям, которые могли бы выявить его законы. Иными словами, то, что некоторые именуют «сигнификативной цепью», не может быть структурировано, поскольку она сама – Исток всякой структуры. Человек «обитает в языке». Всякое понимание бытия приходит через язык, и, стало быть, никакая наука не в состоянии объяснить, как функционирует язык, ибо только через язык мы можем постичь, как функционирует мир. Действительно, для Хайдеггера единственно возможное отношение к этому гласу бытия, каковым выступает язык, это «уметь вслушиваться», внимать, вопрошать, не торопить время, хранить верность тому, что говорит в нас. Как известно, привилегированной формой такого рода вопрошаний является поэтическое слово. Поэтическое слово объясняет вещи, но кто объяснит поэтическое слово и слово вообще? К языку, как и к бытию, кода не подобрать и структуры их не вывести. Только проявляясь исторически, в различные ЭПОХИ по-разному, бытие выступает в форме структурированных универсумов. Но всякий раз, когда мы пытаемся возвести эти универсумы к их глубинному первоистоку, нам открывается неструктурированная и неструктурируемая безосновность.
Не секрет, что, совершая такую философскую операцию, Хайдеггер тем самым ставит под вопрос всю западную традицию, в которой бытие всегда мыслилось как «ousia» и, следовательно, как «присутствие» (см. Einfuhrung, iv.4). Но если довести его мысль до логического конца, то под вопросом окажется само понятие «бытия». Тот, кто изучает язык как безосновность, изучает исходное различие, которое никак положительно не коннотируется и которое, хотя и побуждает к коммуникации, само по себе ни о чем не говорит, разве что о собственной нескончаемой «игре».
Жак Деррида – это тот мыслитель, который, начав с критики структурализма под влиянием Хайдеггера и Ницше, привел к логическому завершению указанное направление философской мысли. При этом он сокрушает не только структурализм как философию (который «reste pris aujourd’hui, par toute une couche de sa stratification, et parfois la plus fеconde, dans la mеtaphysique – le logocentrisme – que l’on prеtend au m?me moment avoir, comme on dit si vite, “dеpassеe”» (De la grammatologie, p.148)[6 - «Сегодня все еще остается и в целом, и в его самом порой плодоносном метафизическом пласте логоцентризмом, который некоторые слишком скоропалительно полагают “превзойденным”».], он сокрушает само «онтологическое» мышление, как того и желал Хайдеггер.
Если «различие» (difference), чье движение порождения Деррида называет differance, лежит в истоках всякой коммуникации, то она не поддается сведению к какой-либо наличной форме (р. 83). Созидая все временные, человеческие, исторические горизонты, различные «эпохи», о которых говорит Хайдеггер, различие «en tant que condition du syst?me linguistique, fait partie du syst?me linguistique luim?me… situеe comme un objet dans son champ»[7 - «В качестве условия лингвистической системы само входит составной частью в лингвистическую систему, помещаясь как объект в ее поле».]. И, стало быть, его невозможно описать как структуру.
Если различие – не более чем «след» (снова перед нами разрыв, «bеance», ????????), то это не просто исчезновение источника: «elle veut dire ici que l'origine n’a m?me pas disparu, qu’elle n’a jamais еtе constituеe qu’en retour par une non-origine, la trace, qui devient aussi l’origine de l’origine… Si tout commence par la trace, il n’y a surtout pas de trace originaire» (p. 90)[8 - «(Различие) означает здесь, что истоки никуда не делись, что оно и всегда-то было возвращением к не-изначальному, следом, который оказывается, таким образом, началом начал. Если все начинается со следа, то первоначального следа вообще не существует».].
Отметим, что подобный ход мысли имеет своим следствием утверждения, которые мы встречаем у классиков структурной лингвистики от Соссюра до Ельмслева. Соссюр говорил, что звук как материальная сущность не принадлежит языку, потому что языку принадлежит только система различий, которая наделяет звуки значениями. Выводы, к которым приходит Деррида, значительно расширяют сферу действия второго члена соссюровской оппозиции: не только система различий противопоставляется материальной реальности звука, по различие представляет собой структуру любой возможной материальной детерминации, такова структура детерминации, если ее еще можно назвать структурой. Но можно ли, ведь это уже не структура? Тогда что это?
Чтобы лучше понять, что у этой дефиниции различия есть свой «философский» резон, необходимо вернуться к нашему определению кода в его наиболее элементарном значении «системы». Система налагается на равновероятность источника информации для того, чтобы с помощью некоторых правил ограничить сферу возможных событий. Система – это система вероятностей, сужающая изначальную равновероятность. Фонологическая система осуществляет выбор нескольких десятков звуков, встраивая их в оппозиции, и сообщает им дифференциальное значение. То, что было до этой операции, представляло собой недифференцированный универсум всевозможных шумов и звуков, соединяющихся вполне беспорядочно. Некая система начинает действовать, наделяя смыслом что-то такое, что первоначально этим смыслом не обладало, при этом некоторые элементы этого «что-то» возводятся в ранг означающих. Но пока системы нет и пока это нечто не наделено кодом, в нем возможно бесконечное количество сочетаний, которые обретут смысл только ПОЗЖЕ, после наложения какой-либо системы.
Что же это за нечто не-кодифицированное? Это источник информации или – если угодно – реальность. Это то, что до всякого семиозиса семиотика может и должна изучать, только если некая система ограничивает число возможностей, приводя это нечто к форме. Действительно, есть один-единственный способ изучать то, что может произойти в универсуме до-кодифицированного и не-кодифицированного – прилагать к нему теорию вероятности. Но теория вероятности, отождествляет ли она статистические законы с объективными законами хаоса-реальности или понимает их только как инструментарий, пригодный для предвидения, может сказать только одно: каким образом может произойти все что угодно там, где еще не оставила своего формирующего отпечатка система.
Так что же такое это нечто, чей ход человеческая мысль, не будучи способна выявить его структуру, пытается предугадать при помощи теории вероятности? Напомним о коммуникативной модели, представленной в а. I. Это Источник, Исток некой возможной коммуникации. Здесь можно было бы заметить, что «источник» это кибернетический термин с довольно точным значением и употреблять его в философском смысле значит превращать в метафору. Несомненно также, что слова Источник и Исток (Fonte, Sorgente) заставляют вспомнить о метафорах Гёльдерлина, поэзией которого вдохновлялся Хайдеггер, когда судил о поэтической речи: «Неведомо, что делает поток», как неведомо и то, что происходит в источнике информации. Здесь можно спросить о смысле использования понятийного аппарата статистики для описания ситуации безначальности, которая к тому же описывается с помощью категорий, располагающихся, как это происходит у Лакана, как раз где-то посередине между философией и психоанализом: «Cet Autre, n’est rien que le pur sujet de la moderne stratеgie des jeux, comme tel parfaitement accessible au calcul de la conjecture, pour autant que le sujet rеel, pour у rеgler le sien, n’a ? y tenir aucun compte d’aucune aberration dite subjective au sens commun, c’est-?-dire psychologique, mais de la seule inscription d’une combinatoire dont l’exhaustion est possible» (Еcrits, p. 806)[9 - «Этот другой представляет собой не что иное, как чистый субъект современной стратегии игры, и как таковой он вполне доступен расчету вероятностей, если только реальный субъект, рассчитывая собственную конъюнктуру, не будет принимать во внимание никаких отклонений, называемых субъективными в обычном смысле, то есть психологических, но только лишь вписывать себя в некую поддающуюся исчерпыванию комбинаторику».].
Между тем существует глубокая общность между пробабилистической концепцией и идеей игры, нашедшая выражение в формулировке «теории игр». Теория игр пользуется пробабилистическим инструментарием, чтобы узнать, что МОГЛО БЫ произойти там, где нет предопределенной структуры и где возможно все. Так и на философском уровне при осмыслении не-изначальности, необязательно принимающей мистический и «нуминозный» вид хайдеггеровского бытия, не-изначальность наводит на мысль об игре. Эта идея ницшеанского происхождения, она подхвачена Деррида и Фуко, которые пользуются ею в строго «философском» смысле.
Ведь это у Ницше наиболее рельефно очерчивается тема человека как существа «без происхождения» и мира как поля вечной игры: «мы лишний раз убедились в “бесконечности” мира, поскольку не сумели доказать невозможность того, что он заключает в себе бесконечное число интерпретаций» (Веселая паука)[10 - Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 515.].
Поиск не-изначальности преображается тогда в поиск «le sommet virtuel d’un c?ne o? toutes les diffеrences, toutes les dispersions, toutes les discontinuitеs seraient resserrеes pour ne plus former qu’un point d’identitе, d’impalpable figure du m?me» (Foucault, Les mots el les choses, p. 341)[11 - «Вершины воображаемого конуса, в которой все различия, все рассеяния и все разрывы окажутся вновь стянутыми вместе, чтобы образовать нечто иное, как некую точку идентичности, неосязаемый образ того же самого».]. Как уточняет Деррида (De la grammatologie, p. 73), самодвижение «diffеrance» создает ситуацию игры, которая не есть «un jeu dans le monde», но «lе jeu du monde» (не игра в мире, но игра мира).
Именно поэтому самые суровые упреки он адресует Леви-Строссу, последнему и наиболее выдающемуся представителю «онтологии присутствия» и, стало быть, метафизики структуры.
2.2. Онтологический структурализм и его идеология
Как же получилось так, что рассуждая о фонологических оппозициях, мы пришли к оппозициям онтологическим? Возвратимся на миг к пути, проделанному лингвистом. Разговаривают два человека. Они издают звуки, которые суть материальные факты, могущие быть записанными на магнитофоне. Лингвист задается вопросом: как получается, что эти звуки что-то «означают»? И получает ответ, они – и это некая гипотеза – определяются через оппозиции. Понятие оппозиции – это рабочий инструмент, позволяющий объяснить, как получается, что два материальных события производят значения, как такая вещь, как мысль, может иметь материальное основание. Следовательно, лингвист выводит из «надстроечных» (accadimenti sovrastrutturali) – в смысле диалектического материализма – явлений явления «базисные» (strutturali) – в смысле материалистической диалектики. Лингвист разрабатывает удивительную конструкцию универсума «emic» только потому, что существует универсум «etic». Метаморфозы философского порядка случаются тогда, когда лингвист или кто-то еще превращает инструмент объяснения (очевидно, временного пользования и полученный благодаря абстрагированию) в философское понятие и принуждает инструментарий становиться причиной (causa causante) того самого явления, для исследования которого этот инструментарий и разработан. Emic становится причиной etic. Фонологические принципы, служащие для объяснения фонетических явлений, отныне их ОБОСНОВЫВАЮТ. Того, кто стоял на ногах, ставят на голову. Так различие, которое поначалу объясняло как два члена оппозиции, порознь бессмысленные, рождают смысл, преобразуется в источник значения. Теперь это уже не то, что объясняет значение, но то, что его причиняет. Оттесняя все прочие философские толкования, философские абстракции РАЗЛИЧИЯ и ОТСУТСТВИЯ преображаются в ПРИСУТСТВИЕ, и оно-то единственно и достойно упоминания.
Впредь всякий, кто хочет объяснить феномен коммуникации, если он последователен, должен считать, что:
а) язык предшествует человеку и даже учреждает его как такового;
б) не человек говорит на том или ином языке, но язык «проговаривает» человека.
Утверждение (б) вовсе не значит, что человек всегда обязан мыслить и общаться на основе социально детерминированных кодов, этот вывод нас весьма устраивает с семиотико-методологической точки зрения, он важен как исходный пункт для разработки семиотики, которая всегда пытается показать, на основе каких существующих социальных и исторических кодов люди общаются. Но эта предпосылка подразумевает, что язык «проговаривает» человека согласно тем законам и правилам, которые человеку не дано познать.
Стало быть, структуры разных языков и исторически сложившиеся коды могут существовать, но это не структура языка как такового, не некая Пра-система, не Код кодов. Последний никогда не станет нашей добычей. Никакое металингвистическое изучение элементарных механизмов языковой деятельности невозможно именно потому, что в основе нашего говорения о механизмах таковой деятельности лежит сам язык. Изучать язык – значит только ВОПРОШАТЬ язык, давая ему жить своей жизнью.
Язык никогда не будет тем, что мы мыслим, но тем, в чем свершается мысль. Следовательно, говорить о языке не значит вырабатывать объясняющие структуры или прилагать правила речи к каким-то конкретным культурным ситуациям. Это значит давать выход всей его коннотативной мощи, превращая язык в акт творчества, с тем чтобы в этом говорении можно было расслышать зов бытия. Слово не есть знак. В нем раскрывается само бытие. Такая онтология языка умерщвляет всякую семиотику. Место семиотики занимает единственно возможная наука о языке – поэзия, ecriture.
Итак, всякое исследование структур коммуникации выявляет не какую-то залегающую в глубине структуру, а отсутствие структуры, локус непрестанной «игры».
На смену двусмысленной «структуралистской философии» приходит нечто новое. Не случайно те, кто сделал наиболее последовательные выводы из этой ситуации – мы имеем в виду Деррида и Фуко, – никогда не утверждали, что они структуралисты, хотя из соображений удобства «структуралистами» называют целый ряд ученых, объединенных некой тематической общностью.
Если в истоках всякой коммуникации и, следовательно, любого культурного феномена лежит изначальная Игра, то ее не определить с помощью категорий структуралистской семиотики. Под вопрос ставится само понятие Кода. Корни всякой коммуникации уходят не в Код, а в отсутствие какого бы то ни было кода.
Как только язык начинают понимать как некую силу, действующую за спиной человека, как «сигнификативную цепь», которая строится в соответствии с собственными вероятностными закономерностями, онтологический структурализм (уже не структурализм) перестает быть методологией изучения культуры и превращается в философию природы.
Научный анализ сигнификативных цепей оказывается чистой утопией. Если цепь означающих и истоки – это одно и то же, то как возможен ее объективный анализ, ведь означающие нуждаются в непрерывном вопрошании, и, стало быть, в герменевтическом толковании?
Как можно заниматься анализом означающих, пренебрегая теми значениями, которые они на себя принимают, если истоки «эпохально» обнаруживают себя как раз в форме значений и придание «эпохальных» значений модусам, в которых бытие, всегда скрытое от глаз, приоткрывается, оказывается единственно возможной формой философствования?
В одном итальянском интервью Леви-Стросс заметил по поводу «Открытого произведения» (1962), что нет смысла ставить вопрос о структуре потребления произведения искусства: произведение можно рассматривать как некий кристалл, отвлекаясь от спровоцированных им ответов адресата. Но если язык – это изначальный локус, тогда наше говорение есть не что иное, как вопрошание Бытия, и, стало быть, не что иное, как непрестанный ОТВЕТ, оставляющий безответным вопрос о реальной структуре языка.
Если Последняя Структура существует, то она не может быть определена: не существует такого метаязыка, который мог бы ее охватить. А если она как-то выявляется, то она – не Последняя. Последняя Структура – это та, что, оставаясь скрытой, недосягаемой и неструктурированной, порождает все новые свои ипостаси. И если прежде всяких определений на нее указывает поэтическая речь, то тут-то и внедряется в изучение языка та аффективная составляющая, что неотъемлема от всякого герменевтического вопрошания. И тогда структура не объективна и не нейтральна: она уже наделена смыслом.
Итак, отправляться на поиски ПОСЛЕДНЕГО ОСНОВАНИЯ коммуникации – значит искать его там, где оно не может быть более определено в структурных терминах. Структурные модели имеют смысл, только если НЕ ставится вопрос о происхождении коммуникации. Как и кантовские категории, они имеют значение только в качестве критериев познания, возможного в круге феноменов, и не могут связывать феноменальный и ноуменальный миры.
Стало быть, семиотика должна набраться мужества и очертить собственные границы при помощи некоторой – пусть скромной – «Kritik der semiotischen Vernunft» («Критики семиотического разума»). Семиотика не может быть одновременно оперативной техникой и познанием Абсолюта. Если она представляет собой оперативную технику, то ей не следует предаваться фантазиям относительно того, ЧТО происходит в истоках коммуникации. Если же она – познание Абсолюта, то она не может сказать ничего о том, КАК осуществляется коммуникативный процесс.
Если же, напротив, предметом семиотики становится Происхождение всякой коммуникации и это Происхождение никак не поддается анализу, оставаясь всегда «за кадром», «по ту сторону» ведущихся на его счет разговоров, тогда главный вопрос, которым должна задаться семиотика такого типа, это вопрос: КТО ГОВОРИТ?
Мы не собираемся отрицать здесь законность этого вопроса. Мы даже полагаем, что такая постановка вопроса открывает небезынтересные философские горизонты. Но вот тут-то и как раз потому, что вопрос этот веками порождал совершенно определенный тип философствования, нам следовало бы еще раз набраться мужества и спросить также об идеологии такого вопрошания, даже если сам вопрошающий заблуждается насчет мотивов своего вопроса. Выявлять идеологию – одна из задач семиотики. Но для этого надо верить, что семиотика возможна. А верить в то, что семиотика возможна, значит руководствоваться уже другой идеологией.
Введение
В этой книге мы задаемся вопросом о том, что такое семиотическое исследование и каков его смысл. Иными словами, такое исследование, в котором все феномены культуры рассматриваются как факты коммуникации и отдельные сообщения организуются и становятся понятными в соотнесении с кодом.
Никто не спорит о том, что словесное высказывание, текст, составленный при помощи азбуки Морзе, дорожный знак представляют собой сообщения, построенные на базе принятых кодов, но семиотике также приходится рассматривать сообщения, кажущиеся естественными, немотивированными, спонтанными, рождающимися по аналогии, например, такие как портрет Моны Лизы или образы Франки и Инграссии, и более того, она рассматривает факты культуры, на первый взгляд вовсе не связанные с коммуникацией, такие как дом, вилка или система общественных отношений. Мы сознательно детально рассматриваем вопросы визуальной коммуникации и архитектуры, – в противном случае семиотики уступят поле битвы лингвистам и кибернетикам, чье оружие отличается точностью. Но если семиотическое исследование по необходимости опирается на достижения лингвистики и теории информации, оно все же – и это одно из положений, которые здесь отстаиваются, – не исчерпывается ни лингвистическими, ни информационными методами.
Естественно, возникает вопрос, имеет ли смысл рассматривать все феномены культуры как феномены коммуникации. Даже соглашаясь с тем, что это проблема точки зрения, всякий может сказать, что все это придумано только для того, чтобы занять безработных интеллектуалов. Как писали недавно в одном остром памфлете, семиотические установки – это не что иное, как очередное ухищрение бюрократии, стремящейся еще раз проконтролировать то, что и так уже давно под контролем, скажем, установить такую систему налогообложения, в которой «выступы» на домах будут считаться «балконами». И вся «новизна» в том и будет состоять, что давно известное повернут другим боком. Коварный умысел полемиста, прописывающего врага по ведомству крючкотворов, пробуждая тем самым таящегося в каждом из нас правдолюбца, ясен всем и вся. Но это как если бы Птолемей упрекал Галилея за то, что он, изучая все то же Солнце и Землю, зачем-то при этом упорно ведет отсчет не от Земли, а от Солнца. Так вот, может статься, что семиология, не претендуя на свершение великих революций, осуществляет скромный переворот наподобие Коперника.
* * *
Тот, кто согласен разделить эти воззрения, может приниматься за чтение первой части книги, которая на первый взгляд может показаться добросовестным изложением всего того, что по этому поводу сказано; но наговорено столько разных и часто противоречащих друг другу вещей, что при систематизации материала неизбежно пришлось осуществлять отбор. Вырабатывая дефиниции по ходу нашего повествования, доступного, но не эклектического, объективного, но и пристрастного, приходилось кое-чем поступаться.
Далее рассматриваются визуальные коды от флажковой сигнализации до кинематографа, при этом оспариваются некоторые мифы о прикладной лингвистике как всеобщей отмычке (clavis universalis). В заголовке «Дискретное видение» слово «дискретный» использовано как антоним к слову «континуальный», чтобы выделить проблему идентификации различительных признаков в визуальной коммуникации. Затем речь идет об архитектуре, градостроительстве и дизайне.
Здесь наша книга, дотоле исследовавшая вопросы кодов и их структур, стремящаяся по возможности исчерпывающе определить понятие «структуры», переходит к трактовке эпистемологических аспектов любого структуралистского дискурса. И обсуждает эту проблему применительно к таким сферам, как этнология, литературная критика, музыкознание, психоанализ и история идей. У нас нет намерения оценивать достоинства отдельных исследований, но мы хотим с предельной ясностью продемонстрировать, какие философские выводы следуют из представления – иллюзорного – о структуре как о наличном, уже имеющемся, последнем и неизменном основании всех природных и культурных явлений, а также показать, что такой онтологический статус предполагает, как мы увидим, разрушение самого понятия структуры, онтологию Отсутствия, Пустоты, которая, согласись мы с этим, означала бы бытийственную неукорененность любого нашего действия. Таков философский вердикт, истина в последней инстанции, обжалованию не подлежащая. И коли так, с этим велением Необходимости следует молчаливо согласиться, смирившись с реальным положением дел. Почему и закрадывается подозрение, а не слишком ли быстро мы поверили в эту окончательность? Не получится ли тогда, что истина истиной, а Платон дороже – arnica veritas, sed magis amicus Plato?