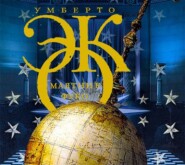По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таким образом, если мы сосредоточиваем внимание на отношении произведение – потребитель в том его виде, в каком оно вырисовывается в поэтике открытого произведения, это не означает, что мы сводим наш подход к искусству к чистой техницистской игре, как многим хотелось бы это представить. Наш подход – просто один из многих подходов, определяемый спецификой нашего исследования, направленный на то, чтобы собрать и упорядочить элементы, необходимые для разговора об историческом моменте, в котором мы существуем.
Первый намек на возможность эволюции в этом направлении мы даем в последнем очерке этого сборника («О способе формообразования как отражении действительности»), где дискурс, направляемый лингвистическими формами произведения, рассматривается как отражение более широкого идеологического дискурса, который проходит сквозь языковые формы и который можно понять только в том случае, если сначала проводится анализ языковых форм как таковых – как некоего автономного «ряда».
В заключение хочу упомянуть, что исследования природы открытого произведения были начаты в процессе наблюдений за музыкальными опытами Лучано Берио и обсуждения проблем новой музыки с ним, Анри Пуссёром и Андре Букурешлиевым, что обращение к теории информации стало возможным благодаря помощи Г. Б. Дзордзолли, который руководил моими действиями в этой столь специфической области; Франсуа Валь помогал мне, вдохновлял меня и давал советы, когда я перерабатывал французский перевод, – в итоге многие страницы были переписаны, и потому второе издание частично отличается от первого.
По поводу очерка «О способе формообразования…» я должен упомянуть, что он был написан под влиянием (родившимся, как всегда, из полного противоречий сотрудничества и оживленной дружеской полемики) Элио Витторини, который в ту пору как раз открывал в пятом номере «Менабо» новую фазу дискуссии по вопросам культуры.
И наконец, по цитатам и косвенным ссылкам читатель поймет, насколько я обязан теории формообразования Л. Парейзона; я не смог бы прийти к понятию «открытого произведения» без его анализа понятия «интерпретация», даже если за философскую картину, в которую я потом включил эти разработки, ответственность несу только я.
1967
Открытое произведение
Поэтика открытого произведения
Из последних произведений инструментальной музыки можно отметить некоторые сочинения, имеющие общую особенность: исполнителю предоставляется необычайная свобода, так что он не только может выполнять указания композитора соответственно своему восприятию (это происходит, когда мы имеем дело с традиционной музыкой), но и просто обязан влиять на форму сочинения: нередко длительность нот или последовательность звуков определяется в творческом акте – импровизационно. Назовем несколько самых известных примеров: 1) в своей Одиннадцатой пьесе для фортепьяно («Klavierstuck XI») Карлхайнц Штокхаузен на одном большом листе предлагает исполнителю ряд музыкальных групп, предоставляя ему возможность сначала выбирать, а потом постепенно уточнять, какую именно группу он присоединит к предыдущей; при таком исполнении свобода исполнителя обусловлена «комбинаторной» структурой пьесы, дающей ему возможность самостоятельно «выстраивать» последовательность музыкальных фраз; 2) в «Секвенции для одинокой флейты» Лучано Берио исполнителю поручается партия, которая представляет собой музыкальную ткань, где определены последовательность и интенсивность звуков, однако продолжительность звучания каждой ноты зависит от того, какое значение придаст ей исполнитель в контексте неизменного пространственного объема, который соответствует столь же неизменным ударам метронома; 3) по поводу своих «Перемен» Анри Пуссёр говорит так: «“Перемены” представляют собой не столько пьесу, сколько определенное поле возможностей, приглашение к выбору. Они состоят из шестнадцати разделов. Каждый можно связать с двумя другими, не рискуя при этом нарушить логическую последовательность звукового развития: два раздела начинаются примерно одинаково (и затем последовательно начинают расходиться), а два других, напротив, могут сойтись в одной и той же точке. Так как начинать и заканчивать можно любым разделом, возникает множество хронологических развязок. И наконец, два раздела, начинающиеся в одной и той же точке, можно синхронизировать и таким образом привести к более сложной структурной полифонии… Все эти формальные варианты можно записать на магнитофонную ленту, пустить в продажу, и тогда, располагая относительно недорогой акустической установкой, публика сама в домашних условиях сможет на их основе создавать доселе неизвестные музыкальные образы, рождать новое восприятие материи звука и времени»; 4) в своей «Третьей сонате для фортепьяно» Пьер Булез делит первую часть (Antiphonie, Formant 1) на десять отрывков, расположенных на десяти отдельных листах, которые могут по-разному сочетаться (даже если не все комбинации допустимы); вторая часть (Formant 2, Thrope) состоит из четырех разделов кольцевой структуры, благодаря которой начинать можно с любого из них, постепенно соединяя в круг. Внутри этих разделов нет больших возможностей для вариативных интерпретаций, но, например, раздел, озаглавленный «Parenthuse», начинается с точно определенного темпа, а в дальнейшем предполагает широкие отступления, где ритм свободный. Что-то вроде правила являют собой указания на связь между отрывками (например, sans retenir, encha?ner sans interruption[18 - Не умеряя; связать, не прерывая (фр.).] и т. д.).
Во всех этих примерах (а мы назвали лишь четыре из многих) сразу бросается в глаза огромная разница между подобными видами музыкального сообщения и теми, к которым нас приучила классическая традиция. В двух словах это различие можно сформулировать так: классическое музыкальное произведение, например, фуга Баха, «Аида» или «Весна священная», представляет собой всю совокупность звуковой реальности, которую автор организовывал вполне определенным, законченным образом, предлагая ее слушателю, или с помощью условных знаков наставлял исполнителя, чтобы тот в основном воспроизводил форму, задуманную композитором; что касается вышеназванных новых произведений, то те, напротив, предполагают не законченное и определенное сообщение, не строго определенную форму, а различную музыкальную организацию произведения, которое предоставляется исполнителю; следовательно, новые произведения предстают не как законченные произведения, требующие, чтобы их пережили и постигли в заданном структурном формате, но как произведения «открытые» – тогда исполнитель завершает их в тот самый момент, когда получает от этого эстетическое наслаждение[1 - Здесь сразу же надо устранить возможную двусмысленность: нет сомнения в том, что между практическим действием толкователя произведения, когда он выступает как «исполнитель» (инструменталист, исполняющий какой-либо музыкальный отрывок, или актер, декламирующий текст) и действием толкователя, который эстетически воспринимает то или иное произведение (то есть тем, кто смотрит на картину, в безмолвии читает стихи или слушает музыкальный отрывок, исполняемый другими), есть разница. Однако в результате эстетического анализа оба случая начинают рассматриваться как различные проявления одного и того же интерпретационного подхода: любое «чтение», «созерцание», «наслаждение» каким-либо произведением искусства является формой его «исполнения», даже если оно совершается в безмолвии и частным образом. Понятие интерпретационного процесса вбирает в себя все эти подходы. Здесь мы обращаемся к Л. Парейзону: Pareyson L. Estetica – Teoria della formativit?. Torino, 1954 (2 ed.: Bologna, Zanichelli, 1960. Ниже мы будем ссылаться на это издание). Естественно, могут появиться произведения, которые предстают перед исполнителем (инструменталистом, актером) как «открытые» и преподносятся публике как уже однозначный результат определенного выбора; в других случаях несмотря на выбор исполнителя может сохраняться и возможность выбора для публики, к которому она и приглашается.].
Во избежание терминологических недоразумений надо отметить, что название «открытые», данное этим произведениям, даже если оно наилучшим образом помогает обрисовать новую диалектику взаимоотношений между произведением и исполнителем, здесь должно приниматься в силу той договоренности, которая позволяет нам отвлечься от других возможных и законных значений этого выражения. Дело в том, что в эстетике принято обсуждать проблему «завершенности» и «открытости» художественного произведения. Оба термина относятся к ситуации художественного восприятия, которую все мы переживаем и которую часто вынуждены так или иначе определять: произведение искусства представляет собой некий объект, произведенный автором, – он организует его смысловое содержание так, чтобы любой человек, его воспринимающий, мог вновь постичь (посредством игры собственных откликов на конфигурацию впечатлений, оказывающих стимулирующее воздействие на его чувства и разум) само произведение, его изначальную форму, задуманную автором. В этом смысле автор создает законченную форму, желая, чтобы она была постигнута и воспринята так, как он ее создал; тем не менее, воспринимая всю совокупность стимулов и осмысляя их, любой человек привносит в этот процесс конкретную экзистенциальную ситуацию, свое, по-особому обусловленное чувственное восприятие, определенную культуру, вкусы, склонности, личные предубеждения – таким образом постижение изначальной формы совершается в определенной индивидуальной перспективе. В сущности, форма является эстетически значимой, поскольку ее можно рассматривать и осмыслять в разнообразных перспективах, когда она, не переставая быть самой собой, являет богатство аспектов и отголосков (дорожный знак, напротив, может недвусмысленно восприниматься только в одном значении и, если он подвергается какому-то причудливому истолкованию, он перестает быть этим знаком с данным конкретным значением). Итак, произведение искусства как форма, завершенная и замкнутая в своем строго выверенном совершенстве, также является открытым, давая возможность толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия. Таким образом, всякое художественное восприятие произведения является его истолкованием и исполнением, так как в любом восприятии оно оживает в своей неповторимой перспективе[2 - Относительно такого понятия истолкования см. L. Pareyson, op. cit. (особенно V и VI главы); об «открытости произведения», доведенной до крайних пределов, Ролан Барт пишет так: «Эта открытость – не какое-то второстепенное достоинство; напротив, она есть самое существо литературы, доведенное до высочайшей концентрации. Писать – значит расшатывать смысл мира, ставить смысл мира под косвенный вопрос, на который писатель не дает последнего ответа. Ответ дает каждый из нас, привнося в них свою собственную историю, свой собственный язык, свою собственную свободу; но, поскольку история, язык и свобода бесконечно изменчивы, бесконечным будет и ответ мира писателю; мы никогда не перестанем отвечать на то, что было написано вне всякого ответа: смыслы утверждаются, соперничают, сменяют друг друга, смыслы приходят и уходят, а вопрос остается… Но чтобы игра состоялась… должны быть соблюдены некоторые правила. Надо… чтобы произведение было подлинной формой, чтобы оно действительно выражало колеблющийся смысл, а не закрытый смысл…» См. Барт Р. Из книги «О Расине» // Барт Р. Избранные работы. С. 145 (пер. С. Козлова). Итак, в этом отношении литература (а мы скажем, что вообще любое художественное сообщение) определенным образом обозначает неопределенный объект.].
Ясно, однако, что, например, произведения, принадлежащие Берио или Штокхаузену, являются «открытыми» в менее метафорическом и куда более осязаемом значении; попросту говоря, это «незаконченные» вещи, которые автор вроде бы вверяет истолкователю, рассматривая их как детали игрового конструктора и словно не интересуясь, чем все это закончится. Подобное истолкование фактов парадоксально и неточно, однако чисто внешняя сторона таких музыкальных экспериментов дает повод к двусмысленности, хотя и продуктивной, так как озадачивающие, выбивающие из колеи особенности данного эксперимента должны показать нам, почему сегодня художник ощущает потребность работать именно в этом направлении, какой этап исторического развития эстетического чувства он при этом выражает, какие культурные аспекты нашей эпохи ему сопутствуют и как этот эксперимент надо рассматривать в свете теории эстетики.
* * *
Согласно Пуссёру[3 - La nuova sensibilit? musicale, Incontri Musicali, n. 2, maggio 1958, pag. 25.], поэтика «открытого» произведения тяготеет к тому, чтобы подталкивать его истолкователя к «осознанно свободным действиям», делать его активным средоточием совокупности неисчислимых связей, среди которых он воссоздает свою собственную форму, не ощущая давления той необходимости, что навязывает ему вполне определенные способы организации воспринимаемого произведения; однако можно было возразить (ссылаясь на тот более широкий смысл термина «открытость» – о котором мы мимоходом упомянули), что любое произведение искусства, даже если и не оказывается материально незавершенным, требует свободного и творческого ответа на него, по крайней мере потому, что его нельзя по-настоящему понять, если истолкователь не открывает его заново в акте творческого единомыслия с самим автором. Другое дело – такое наблюдение стало возможным, лишь когда современная эстетика вступила в пору вполне зрелого, критического осознания, что представляет собой отношение к интерпретации, и нет сомнения в том, что несколько веков назад художник был весьма далек от того, чтобы критически осознавать эту реальность; теперь же, напротив, такое осознание в первую очередь присутствует в самом художнике, который, вместо того чтобы мириться с «открытостью» произведения как с чем-то неизбежным, сам выбирает ее в качестве творческой программы и представляет свое произведение так, чтобы способствовать максимально возможной открытости.
Нельзя сказать, чтобы от древних совершенно ускользнуло значение субъективного момента (того факта, что восприятие произведения предполагает отношение взаимодействия между субъектом, который «видит», и произведением как объективной данностью), особенно когда речь заходила об изобразительных искусствах. Например, Платон в своем Софисте отмечает, что художники задают пропорции не в соответствии с объективным положением вещей, а под тем углом зрения, под которым наблюдатель воспринимает образы; Витрувий проводит различие между симметрией и эвритмией, понимая последнюю как согласование объективных пропорций с субъективными требованиями созерцания; развитие теоретического представления о перспективе и ее практическое осмысление свидетельствуют об углублении понятия, какую роль играет субъективность при истолковании произведения. Однако подобные взгляды в равной мере заставляли действовать против открытости и в пользу замкнутого характера произведения: различные перспективные ухищрения представляли собой не что иное как уступку, которой требовало положение зрителя в пространстве и смысл которой был в том, чтобы увидеть изображение единственно возможным и правильным образом, тем самым, к которому автор (прибегая к визуальным трюкам) пытался его подвести.
Приведем другой пример. В Средние века получает развитие теория аллегоризма, предполагающая возможность прочитывать Священное Писание (а затем поэзию и изобразительные искусства) не только в их буквальном смысле, но и в трех других: аллегорическом, моральном и мистическом (анагогическом). Эта теория нам знакома по творчеству Данте, но своими корнями она уходит в Послания св. Павла (videmus nunc per speculum in aenigmate, tune autem facie ad faciem)[19 - «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» (1 Кор. 13, 12).] и получает развитие в трудах св. Иеронима, Августина, Беды, Скота Эриугены, Гуго и Ришара Сен-Викторских, Алана Лилльского, Бонавентуры, Фомы и других, становясь средоточием средневековой поэтики. Произведение, понятое таким образом, несомненно, наделено некоторой «открытостью»; читатель знает, что каждая фраза текста, каждый образ открыт множеству значений, которые он должен выявить; в соответствии со своим расположением духа он подберет ключ к чтению, который покажется ему наиболее назидательным, и воспримет произведение в желанном для него смысле (вновь определенным образом вдыхая в него жизнь и видя его не таким, каким оно могло предстать перед ним в предыдущем чтении). Однако в этом случае «открытость» вовсе не означает «неопределенность» сообщения, «бесконечных» возможностей формы, свободы восприятия; налицо только перечень строго предопределенных и обусловленных вариантов, служащих тому, чтобы толкование читателя никогда не ускользало от авторского контроля. Вот как говорит Данте в своем тринадцатом «Письме»: «Подобный способ выражения, дабы он стал ясен, можно проследить в следующих словах: In exitu Israel de Egypto, damns Jacob de populo barbaro, facta est Judea sanctificatio ejus, Israel potestas ejus[20 - «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его» (лат.; Пс. 113, 1–2).]. Таким образом, если мы прочтем буквально, дословно, то мы увидим, что речь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея; в аллегорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Христом; моральный смысл открывает переход души от плача и от тягости греха к блаженному состоянию; анагогический – переход святой души от рабства нынешнего разврата к свободе вечной славы» (Данте Алигьери. Письмо XIII // Малые произведения. М., 1968. С. 387. Перевод И. Голенищева-Кутузова и Е. Солоновича). Ясно, что в данном случае не существует каких-либо иных способов прочтения текста: в свете сказанного о четырех уровнях восприятия истолкователь может руководствоваться каким-либо одним смыслом, предпочитая его другому, но всегда в соответствии с правилами необходимой и предустановленной однозначности. Значение аллегорических образов и символов, которые человек Средневековья встречал, читая текст, определялось энциклопедиями, бестиариями и лапидариями его эпохи; символика носила объективный и определяющий характер[4 - Поль Рикер в своей «Структуре и герменевтике» (Structure et Hermeneutique, Esprit, novembre 1963) полагает, что многозначность средневекового символа (который одновременно мог относиться к противоположным реальностям, см. перечень подобных вариаций в книге Reau. Iconographie de 1’art chretien. Paris, 1953) нельзя объяснить, основываясь на каком-то отвлеченном перечне значений (бестиарий или лапидарий), но такое объяснение возможно в системе отношений, в упорядоченности текста (контекста), соотнесенного с Библией, которая дает ключи к прочтению. Отсюда проистекает и герменевтическая активность средневекового толкователя, проявляемая по отношению к другим книгам или к книге природы. Однако это не значит, что, например, лапидарии, давая различные возможности толкования одного и того же символа, не ложатся в основу его расшифровки и что ту же самую Священную Книгу не следует понимать как «код», который определяет некоторые варианты прочтения, исключая другие.]. В основе этой поэтики однозначного и необходимого лежало представление об упорядоченном космосе, об иерархии сущностей и законов, которые поэтический дискурс может прояснять на различных уровнях, но которые каждый должен понимать единственно возможным образом, ибо он утвержден творящим логосом. Порядок художественного произведения – это порядок имперского и теократического общества, а правила его прочтения – это правила авторитарного правления, которые направляют человека в каждом его действии, определяя цели и наделяя средствами для их достижения.
Дело не в том, что четыре варианта аллегорического дискурса в количественном отношении уступают множеству развязок, предполагаемых современным «открытым» произведением: мы постараемся показать, что в основе этих различных видов опыта лежит различное видение мира.
Не задерживаясь на этом и перемещаясь в другую историческую эпоху, мы обнаруживаем явный образец «открытости» (в современном значении этого термина) в барочной «открытой форме». Здесь действительно отрицается статическая и однозначная завершенность классической ренессансной формы, завершенность пространства, организованного вокруг центральной оси, ограниченного симметричными линиями и замкнутыми углами, тяготеющими к центру, чтобы таким образом внушить не столько идею движения, сколько идею «сущностной» вечности. Барочная же форма, напротив, динамична, тяготеет к неопределенности результата (благодаря игре наполненности и пустоты, света и тени, благодаря изогнутым линиям, фрагментарности, углам самого разного наклона) и наводит на мысль о постепенном расширении пространства; стремление к движению и иллюзионистским трюкам приводит к тому, что пластические массы никогда не дают возможности выбрать какую-то одну, самую выигрышную, фронтальную, определенную точку зрения, но заставляют наблюдателя постоянно перемещаться, чтобы видеть, как произведение непрестанно меняет обличье, словно находясь в непрерывном изменении. Если барочную духовность можно рассматривать как первое отчетливое проявление современной культуры и современного мировосприятия, то лишь потому, что здесь впервые человек расстается с привычной каноничностью (залогом которой является упорядоченность космоса и непреложность сущностей) и – как в искусстве, так и в науке – оказывается лицом к лицу с миром, находящимся в движении и требующим от него изобретательности. Несмотря на свою внешнюю педантичность, поэтика чудесного, остроумного, метафорического в глубине своей тяготеет к тому, чтобы эта изобретательность стала необходимостью для нового человека, который видит в художественном произведении не объект, основанный на очевидных отношениях и предполагающий наслаждение им как проявлением красоты, а тайну, которую надо исследовать, задачу, которую надо разрешить, стимул, способствующий живости воображения[5 - Относительно барокко как неуспокоенности и выражения современного чувственного восприятия см. Luciano Anceschi. Barocco е Novecento. Milano, Rusconi е Paolazzi, 1960. О стимулирующем воздействии исследований Анчески на историю открытого произведения я попытался сказать в третьем номере «Rivista di Estetica» за 1960 г.]. К таким выводам приходит современная критика, а сегодняшняя эстетика может придать им вид определенных законов, но было бы опрометчиво усматривать в барочной поэтике сознательное теоретизирование по поводу «открытого» произведения.
Наконец, надо отметить, что в период между классицизмом и Просвещением намечается идея «чистой поэзии», именно потому, что отрицание общих идей, абстрактных законов английским эмпиризмом утверждает «свободу» поэта и таким образом предвещает тему «творчества». От утверждений Берка об эмоциональной силе слова мы приходим к рассуждениям Новалиса о чистой мощи поэзии как некоего заклинания как искусства неясного смысла и неточного значения. Отдельная идея кажется тем более самобытной и вдохновляющей, «чем многочисленнее мысли, миры и установки, которые пересекаются в ней и начинают взаимодействовать. Когда произведение дает множество поводов, содержит много смыслов и, прежде всего, множество аспектов осмысления и способов быть понятым и с любовью принятым, тогда оно конечно же становится весьма интересным, становится чистым выражением личностного начала»[6 - Относительно эволюции предромантической и романтической поэтики в этом смысле см. Luciano Anceschi. Autonomia ed eteronomia dell’arte. 2 ed., Firenze, Vallecchi, 1959.].
На излете эпохи романтизма впервые появляется вполне осознанная поэтика «открытого» произведения в символизме второй половины XIX века. В этом отношении достаточно показательно «Поэтическое искусство» Верлена:
De la musique avant toute chose,
Et pour cela prеf?re l’impair,
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui p?se et qui pose.
………………………………………
Car nous voulons la nuance encore,
Pas la couleur, rien que la nuance!
Oh! La nuance seule fiance
Le r?ve au r?ve et la fl?te au cor!
………………………………………..
De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolеe
Qu’on sent qui fuit d’une ?me en allеe
Vers d’autres cieux et d’autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
?parse au vent crispе du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym…
Et tout le reste est litеrature[21 - (За музыкою только дело,Итак, не размеряй пути.Почти бесплотность предпочтиВсему, что слишком плоть и тело.………………………………………Всему милее полутон:Не полный тон, но лишь полтона.Лишь он венчает по законуМечту с мечтою, альт, басон.………………………………………Так музыки же вновь и вновь!Пускай в твоем стихе с разгонуБлеснут в дали преображеннойДругое небо и любовь.Пускай он выболтает сдуруВсе, что, впотьмах чудотворя,Наворожит ему заря…Все прочее – литература).Перевод Б. Пастернака.].
Впоследствии Малларме скажет более определенно и ясно: «Nommer un objet, e’est supprimer les trois quarts de la jouissance du po?me, qui est faite du bonheur de deviner peu a peu: le suggеrer… voila le r?ve…»[22 - Называя предмет, мы на три четверти лишаем себя наслаждения поэмой, которое заключается в радости постепенного угадывания: намекать… вот [в чем заключается] мечта… (фр.)]Нельзя допускать, чтобы однозначный смысл сразу заявлял о себе: чистое пространство вокруг того или иного слова, типографские приемы, пространственная композиция текста – все это способствует тому, что слово наделяется неопределенностью, содержит в себе множество различных намеков.
Поэтика намека сознательно стремится к тому, чтобы произведение стало открытым для свободного его восприятия. Произведение, которое «намекает», всякий раз осуществляется заново, когда истолкователь вкладывает в него свои эмоции и воображение. Если при чтении любой поэзии истолкователь стремится привести свой личностный мир в соответствие с миром текста, то в тех поэтических произведениях, в основу которых сознательно заложен намек, текст стремится к тому, чтобы стимулировать личностный мир истолкователя, заставляя его отыскивать в глубине себя самого сокровенный ответ, родившийся из таинственных смысловых созвучий. Если пренебречь метафизическими претензиями или вычурным декадентским духом таких поэтик, можно сказать, что механизм восприятия подобной литературы тяготеет к своеобразной «открытости».
Продолжая эту линию, значительная часть современной литературы основывается на использовании символа как сообщения о чем-то неопределенном, открытого для – каждый раз новых – реакций и осмыслений. Достаточно вспомнить произведения Кафки – как «открытые» по преимуществу: «процесс», «замок», «ожидание», «приговор», «болезнь», «превращение», «пытка» – это вовсе не те ситуации, которые надо понимать в их непосредственном, буквальном значении. Однако, в отличие от средневековых аллегорических построений, здесь смысловые обертоны не даются неким однозначным образом, не гарантируются какой-либо энциклопедией и не основываются на представлении об упорядоченности мира. Разные истолкования кафкианских символов (экзистенциалистские, богословские, клинические, психоаналитические) лишь отчасти исчерпывают возможности произведения: в действительности оно остается неисчерпаемым и открытым в своей «неоднозначности», так как на смену миру, упорядоченному в соответствии с общепризнанными законами, приходит мир, основанный на неоднозначности, как в отрицательном смысле (отсутствие каких-либо ориентиров), так и в положительном смысле (постоянный пересмотр имеющихся ценностей и непреложных истин).
Итак, даже если трудно установить, стремился ли данный автор к символике, неопределенности или неоднозначности, определенная критическая поэтика сегодня пытается представить всю современную литературу построенной по принципу эффективной символической системы. В своей книге, посвященной литературному символу, У. Тиндалл, анализируя наиболее значительные произведения современной литературы, стремится теоретически и «экспериментально» обосновать утверждение Поля Валери («il n’y a pas de vrai sens d’un texte»)[23 - Не существует истинного смысла текста (фр.).] вплоть до заявления о том, что произведение искусства представляет собой механизм, который любой человек, включая самого автора, может «использовать» как угодно. Поэтому такой вид критики стремится к тому, чтобы рассматривать литературное произведение как постоянно открытое, обладающее неисчерпаемыми возможностями, бесконечным множеством значений; в таком ракурсе следует рассматривать все американские исследования, посвященные структуре метафоры и различным «типам двусмысленности», которые предлагает художественный текст[7 - Cp. Tindall W. Y. The Literary Symbol. New York, Columbia Un. Press, 1955. О современном развитии идеи Поля Валери см. Gerard Genette. Figures. Paris, Seuil, 1966 (особенно главу «La littеrature comme telle»). Анализ эстетического значения понятия неоднозначности содержится в важных наблюдениях и библиографических ссылках Gillo Dorfles, II divenire delle arti, Torino, Einaudi, 1959, pag. 51 sgg.].
Здесь излишне напоминать читателю о том, что классическим примером «открытого» произведения, как раз и задуманного для того, чтобы дать точную картину экзистенциального и онтологического состояния современного мира, является произведение Джеймса Джойса. В его «Улиссе» глава «Wandering Rocks» («Блуждающие скалы») образует малый универсум, который можно рассматривать с разных точек зрения и где от поэтики Аристотеля, а вместе с ней и от представления об однонаправленном течении времени в однородном пространстве не остается и следа. По словам Эдмунда Вильсона[8 - Edmund Wilson. Axel s Castle. London – New York, Scribner’s Sons, 1931, pag. 210 (итальянский перевод: II castello di Axel. Milano. II Saggiatore, 1965).], «вместо того, чтобы двигаться в какую-то одну сторону, его (“Улисса”) сила распространяется во всех направлениях (включая направление Времени) вокруг отдельно взятой точки. Мир “Улисса” полнится сложной и неисчерпаемой жизнью: мы вновь посещаем его, как посещаем город, куда возвращаемся много раз, чтобы узнать знакомые лица, лучше понять людей, завязать интересные отношения и знакомства. Джойс проявил немалую техническую изобретательность, чтобы внедрить нас в свое повествование, причем так, чтобы мы сами себе прокладывали пути: я сильно сомневаюсь, что человеческая память способна при первом чтении удовлетворить все требования, предъявляемые “Улиссом”. И когда мы его перечитываем, мы можем начинать с любого места, словно перед нами нечто незыблемое, например, город, который реально существует в пространстве и в который можно войти с любой стороны – ведь и Джойс говорил, составляя свою книгу, что работал над несколькими кусками одновременно».
Наконец, в «Поминках по Финнегану» («Finnegans Wake») мы оказываемся в космосе Эйнштейна, искривленном, замкнутом на себе самом (начальное слово совпадает с последним) и, следовательно, конечном – как раз поэтому беспредельном. Любое событие, всякое слово находится в какой-то связи со всеми прочими, и от выбора его значения на самой последней черте зависит понимание всего остального. Это не означает, что произведение не имеет смысла: если Джойс и предлагает ключи для прочтения, то как раз стремясь к тому, чтобы оно читалось в определенном смысле. Однако этот «смысл» наполнен богатством космоса, и автор горит неуемным желанием, чтобы он вбирал в себя всю полноту пространства и времени, то есть все возможные пространства и времена. Основное средство для достижения этой целостной многозначности – pun (игра слов, каламбур), где два, три, десять различных корней сочетаются таким образом, что одно слово становится вместилищем значений, каждое из которых сталкивается и соотносится с другими средоточиями аллюзий, в свою очередь открытых новым вариантам и возможностям прочтения. Чтобы определить ситуацию, в которой оказывается читатель в «Finnegans Wake», лучше всего, как нам кажется, обратиться к тому описанию, которое дает Пуссёр, имея в виду ситуацию человека, слушающего постдодекафоническую композицию: «Так как феномены уже не сцеплены друг с другом согласно принципу последовательного детерминизма, приходит черед слушателя добровольно проникнуть в сеть неисчерпаемых связей и, так сказать, выбирать самому (но при этом хорошо сознавая, что его выбор обусловлен объектом, который находится перед ним) свои уровни приближения, свои точки схождения, свою шкалу отношений; именно ему теперь надо стремиться к тому, чтобы, одновременно используя наибольшее количество возможных степеней и измерений, сделать динамичными, умножить и максимально расширить свои орудия усвоения»[9 - Pousseur, op. cit., pag. 25.]. Эта цитата лишний раз подчеркивает, что весь наш разговор сводится к единственной точке, представляющей интерес, и что проблематика «открытого» произведения в современном мире также едина.
Не следует думать, что призыв к открытости совершается только в виде неопределенного намека или эмоционального побуждения. Если мы рассмотрим поэтику театра Бертольда Брехта, то обнаружим уступку традиции, – понятие «драматическое действие», отражающее проблематику определенных напряженных ситуаций; представляя такие ситуации (согласно известной технике «эпической» драматургии, которая не хочет ни к чему «подталкивать» зрителя, но, как бы со стороны, отстранение рисует перед ним картину происходящего), драматургия Брехта в своих самых строгих проявлениях не дает никаких решений: зрителю самому придется делать критические выводы из всего, что он увидел. Таким образом, драмы Брехта тоже приводят к ситуации неоднозначности (наиболее характерным является его «Галилей») с той лишь разницей, что здесь речь идет уже не о мягких полутонах смутно различаемой бесконечности, не о тайне, выстраданной в тоске, а о той конкретной многозначности социального существования, которая предстает как столкновение с проблемами, требующими решения. Здесь произведение «открыто», как «открыта» дискуссия: решение ожидается, его предугадывают, но оно должно родиться из осознанного содействия публики. Открытость становится орудием революционного воспитания.
Во всех рассмотренных нами явлениях категория «открытости» использовалась для характеристики весьма разных ситуаций, но в целом все рассматриваемые произведения типологически отличались от произведений композиторов послевеберновской эпохи, которые мы рассмотрели вначале. Нет сомнения, что за весь период от барокко и до современной поэтики символа все больше и больше уточнялось понятие произведения, предполагающего неоднозначную развязку, но примеры, рассмотренные в предыдущем разделе, представили нам «открытость», основанную на теоретическом, смысловом сотрудничестве истолкователя, который должен свободно осмыслять уже совершившийся художественный факт, уже организованный в более или менее завершенную структуру (даже если она поддается бесконечному множеству истолкований). Что касается такого сочинения, как «Перемены» Пуссёра, то в нем подобный процесс идет еще дальше: если, слушая произведение Веберна, человек свободно реорганизует и воспринимает отношения, существующие в области предложенного ему звукового универсума (уже полностью произведенного), то в «Переменах» Пуссёра он организует и структурирует музыкальный дискурс в том смысле, что практически воздействует на него и порождает его. Он сотрудничает с автором в деле создания произведения.
Мы не хотим сказать, что благодаря подобному различию произведение становится более или менее ценным в сравнении с уже созданными: в нашем случае речь идет о различных поэтиках, ценных в той культурной ситуации, которую они отражают и создают, независимо от любых суждений об их эстетической значимости; однако очевидно, что такое сочинение, как «Перемены» Пуссёра (или другие уже названные композиции), ставит новую проблему и побуждает нас признать, что в области «открытых» произведений существует более узкая категория сочинений, которые, не имея закрепленной физической формы, способны поддаваться различным, непредвиденным структурным изменениям; мы можем определить их как «произведения в движении».
В современной культурной ситуации феномен произведения в движении вовсе не ограничивается областью музыки, но находит интересное выражение в сфере пластического искусства, где сегодня мы обнаруживаем художественные произведения, сами по себе подвижные и наделенные способностью калейдоскопически видоизменяться и представать перед глазами зрителя как вечно новые. В области малых форм здесь можно вспомнить о мобайлах Кэлдера или других авторов, то есть об очень простых построениях, которые, будучи подвешены, вращаются, принимая различные пространственные положения и постоянно создавая свое собственное пространство и свои размеры. На более монументальном уровне можно вспомнить новый архитектурный факультет университета Каракаса – его определяют как «школу, которую изобретают каждый день»: аудитории построены из подвижных панелей таким образом, что преподаватели и ученики, сообразуясь с той архитектурной, урбанистической проблемой, которую они в данный момент изучают, могут создавать соответствующую исследовательскую среду, постоянно изменяя внутреннюю структуру здания[10 - Cp. Bruno Zevi, Una scuola da inventare ogni giorno, L’Espresso, 2 febbraio 1958.]. Кроме того, можно вспомнить Бруно Мунари, который изобрел новый оригинальный вид живописи в движении и произвел поистине поразительное впечатление. Проецируя с помощью обычного волшебного фонаря коллаж из пластических элементов (вид абстрактной композиции, которая получается при наложении или состыковке тончайших бесцветных листов, различным образом вырезанных) и с помощью полароидной линзы пропуская через них яркие лучи; таким способом мы получаем на экране композицию ослепительной хроматической красоты, а затем, по мере того как мы медленно вращаем полароидную линзу, спроецированный образ начинает постепенно приобретать все цвета радуги и (благодаря хроматической реакции разных пластических материалов, а также различных слоев, из которых они состоят) проходят ряд превращений, затрагивающих и пластическую структуру формы. Регулируя по своему желанию вращение линзы, зритель активным образом участвует в создании эстетического объекта, по крайней мере, в пределах тех возможностей, которые возникают благодаря заданной цветовой гамме и пластическим свойствам диапозитива.
Промышленный дизайн, со своей стороны, дает нам немногочисленные, но яркие примеры «произведения в движении» – это предметы обстановки, разбирающиеся лампы, книжные шкафы, могущие принимать различный вид, кресла, способные менять свой облик, сохраняя при этом несомненные достоинства стиля. Все это позволяет современному человеку создавать формы предметов, среди которых он живет, и располагать их тем или иным образом в соответствии с собственным вкусом и потребностями.
Обратившись к литературе в поисках примера произведения в движении, мы вместо соответствия музыке или живописи в современной словесности, обнаруживаем ставшее уже классическим предвосхищение этого явления: речь идет о «Livre» («Книге») Малларме, произведении колоссальном и всеобъемлющем, Произведении, которое должно было стать для поэта не только окончательной целью его деятельности, но и самим завершением мира (Le monde existe pour aboutir ? un livre[24 - Мир существует, чтобы завершиться книгой (фр.).]). Малларме так и не закончил его, продолжая всю свою жизнь вносить какие-то добавления, но остались наброски, недавно опубликованные благодаря кропотливой работе филологов[11 - Jacques Scherer. Le «Livre» de Mallarmе (Premi?res recherches sur des documents inеdits). Paris, Gallimard, 1957 (особенно см. главу III: Physique du Livre).]. Метафизические интенции, лежащие в основе такого начинания, обширны и спорны; мы обойдем их стороной и сосредоточимся на рассмотрении только динамической структуры этого художественного объекта, стремящегося осуществить на практике вполне определенный принцип поэтики: «Un livre ni commence ni finit; tout au plus fait-il semblant» (Книга не начинается и не заканчивается: в самом крайнем случае, она делает вид). «Книга» должна была стать неким подвижным памятником, и не только в том смысле, в каком было «открытым» такое сочинение, как «Coup de dеs»[25 - Сокращенное название произведения С. Малларме: «Un coup de dеs n’abolira jamais le hazard» – «Игра костей никогда не упразднит случая».], где грамматика, синтаксис и типографское оформление текста приводили к полиморфной множественности элементов, не имеющих между собой четкой связи.
В «Книге» не предполагалось, что страницы должны следовать друг за другом в строго определенном порядке: они должны были связываться между собой различным образом в соответствии с законами перестановки. Налицо имелся ряд как бы самостоятельных брошюр (не имевших переплета, который определял бы их последовательность), причем первая и последняя страницы каждой такой брошюры должны были быть написаны на одном большом листе, сложенном вдвое, что означало начало и конец брошюры, внутри которой находились разрозненные листы, – эти листы имели определенную самостоятельность и могли меняться местами так, чтобы при этом текст обладал законченным смыслом. Очевидно, что поэт не стремился к тому, чтобы каждая комбинация имела синтаксический смысл и дискурсивное значение: одинаковая структура фраз и обособленных слов, каждое из которых рассматривалось как способное «намекать» и вступать в «наводящие» отношения с другими фразами или словами, обусловливала действенность любого изменения последовательности, создавая новые возможности отношений и, следовательно, новые горизонты «намека». Le volume, malgrе l’impression fixe, devient, par ce jeu, mobile – de mort il devient vie[26 - Благодаря такой игре книга, несмотря на четкое впечатление, становится подвижной – из смерти переходит в жизнь (фр.).]. Комбинаторный анализ, представляющий собой нечто среднее между играми поздней схоластики (особенно последователей Луллия) и приемами современной математики, позволял поэту понять, каким образом из ограниченного числа подвижных структурных элементов появляется возможность астрономического числа комбинаций; объединение всего произведения в определенное количество брошюр с предельным числом возможных изменений, постоянно «открывая» для «Книги» широчайший выбор последовательностей, укореняло ее в поле возможных смыслов, которые автор стремился представить, предлагая определенные вербальные элементы и указывая на их возможную сочетаемость.
Тот факт, что в данном случае комбинаторная механика служит откровению, похожему на орфическое, не влияет на структурную реальность книги как подвижного и открытого объекта (в этом она особенно близка другим уже упоминавшимся опытам, рожденным в результате иных коммуникативных и формообразующих интенций). Обусловливая взаимозаменяемость элементов текста, который сам по себе может «подсказывать» открытые отношения, «Книга» стремилась к тому, чтобы стать миром, пребывающим в непрестанном слиянии частей, миром, который постоянно обновляется перед взором читателя, всегда являя новые аспекты той многогранности абсолюта, которую она стремится если не выразить, то представить и показать. В такой структуре не предполагалось обнаружение некоего четко определенного смысла, равно как не предусматривалась окончательная форма: если бы какой-то отрывок книги имел вполне определенный, однозначный смысл, недоступный влиянию меняющегося контекста, он остановил бы действие всего механизма.
Утопический замысел Малларме, осложнявшийся непомерностью стремлений и поразительной наивностью автора, не был доведен до конца, и мы не знаем, стал бы этот опыт значимым, если бы осуществился, или показался бы мистическим и эзотерическим выражением декадентского мировосприятия сомнительного толка в конце его исторического существования. Мы склоняемся ко второму предположению, но конечно же любопытно обнаружить на заре нашей эпохи столь мощное провозвестие произведения в движении, признак того, что определенные требования витают в воздухе, что они оправдываются самим фактом своего существования и что их надо объяснять как феномены культуры, дополняющие друг друга в панораме эпохи. Поэтому мы рассмотрели эксперимент, предпринятый Малларме, хотя он и связан с проблематикой несколько двусмысленной и очень ограниченной во времени, тогда как современные произведения в движении, напротив, стремятся установить живые, конкретные, гармоничные отношения с нашими чувствами и воображением и даже, как происходит с последними музыкальными опытами, преподать определенные практические уроки, не притязая на создание орфических суррогатов познания.
* * *
На самом деле всегда рискованно утверждать, что метафора или поэтический символ, звуковая реальность или пластическая форма дают более основательные средства познания реальности в сравнении с теми, что предлагает логика. В науке познание мира происходит путями, считающимися надежными, но всякое стремление художника к ясновидению, даже если оно поэтически продуктивно, таит в себе нечто сомнительное. Искусство не столько познает мир, сколько привносит в него созданные им дополнения, свои самостоятельные формы, которые присоединяются к уже существующим, являя свои собственные законы и свою самобытную жизнь. Тем не менее, любую художественную форму вполне можно рассматривать если не как замену научного познания, то как эпистемологическую метафору, то есть в любом столетии способ структурирования художественных форм отражает (в виде подобия, метафорически, посредством разрешения понятия в образе) способ, с помощью которого наука или, во всяком случае, культура той или иной эпохи воспринимают реальность.
Замкнутое в себе, имеющее один только глубинный смысл произведение художника эпохи Средневековья отражало представление о космосе как об иерархии ясных и предустановленных порядков. Произведение как педагогическое сообщение, как моноцентрическое и необходимое структурирование (в той же самой железной внутренней согласованности метра и рифмы) отражает науку, основанную на силлогизмах, логику необходимости, дедуктивное сознание; благодаря науке может постепенно вырисовываться реальный мир, постепенно, без непредвиденных скачков, двигаясь в одном направлении, исходя из первоначал науки, которые отождествляются с первоначалами самой реальности. Открытость и динамизм барокко знаменуют рождение нового научного сознания: на смену зримому приходит осязаемое, то есть начинает господствовать субъективный аспект, внимание переносится с бытия на видимость архитектурных и живописных объектов; в этой связи можно вспомнить о новых направлениях в философии и психологии, сосредоточившихся на впечатлении и ощущении, об эмпиризме, превращающем Аристотелеву реальность субстанции в ряд восприятий; в то же время отказ от требуемого центра композиции, от преимущественной точки зрения сопровождается освоением взгляда Коперника на вселенную, который окончательно упразднил геоцентризм и все связанные с ним метафизические выводы; в современном научном универсуме, как и в барочной конструкции или в картине, все части наделяются одинаковой ценностью и значимостью, и все стремится к бесконечному расширению, не находя предела или сдерживающего начала ни в каком идеальном миропорядке, но участвуя во всеобщем стремлении к открытию реальности и к постоянно возобновляемому контакту с ней.
«Открытость» символистов-декадентов по-своему отражает новую мучительную заботу культуры, открывающую неожиданные горизонты: необходимо помнить, что некоторые проекты Малларме относительно многомерной подвижности книги (которой надлежало перестать быть единым целым, распавшись на несколько самостоятельных планов, порождающих новые глубины благодаря распадению на новые, меньшие образования, столь же подвижные и разложимые) наводят на мысль о вселенной, для которой характерна новая, неевклидова геометрия.
Поэтому не будет случайностью, если в поэтике «открытого» произведения (и тем более произведения в движении), произведения, которое при каждом новом его восприятии никогда не оказывается равным самому себе, мы обнаружим смутные или вполне определенные отголоски некоторых тенденций современной науки. Теперь для самой передовой, новейшей критики стало обычным делом, объясняя структуру универсума, предстающего на страницах романа Джойса, ссылаться на пространственно-временной континуум, и не случайно Пуссёр, объясняя природу своей композиции, говорит о «поле возможности». Утверждая это, он использует два понятия, заимствованные из современной культуры и в высшей степени показательные: понятие «поля» приходит к нему из физики и подразумевает новое осмысление классических отношений причины и следствия, понимавшихся как однозначные и однонаправленные: вместо этого предполагается совокупность взаимодействующих сил, созвездие событий, динамизм структуры; понятие «возможности» – философское, и оно отражает целое направление в современной науке, отказ от статического и силлогистического восприятия миропорядка, готовность принимать вариативные персональные решения, а также осознание ситуационной обусловленности и историчности тех или иных ценностей.