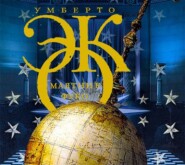По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказать почти то же самое. Опыты о переводе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Латинское слово mus невозможно перевести на английский. Латинское mus покрывает собою единое семантическое пространство, которое английский делит на два участка, отводя один из них слову mouse («мышь»), а другой – слову rat («крыса»); то же самое происходит во французском, испанском и немецком, где существует оппозиция «мышь» / «крыса»: фр. souris / rat, исп. ratоn / rata, нем. Maus / Ratte. Итальянскому тоже известна оппозиция между мышью (topo) и крысой (ratto), но в повседневном употреблении словом topo называют и крысу; в лучшем случае крысу называют производными от слова topo (topone, topaccio) или даже диалектным словом pantegana, тогда как ratto употребляется только в технических контекстах (в известном смысле мы, итальянцы, еще привязаны к латинскому mus).
Конечно, в Италии тоже отмечают разницу между мышкой (topino) из амбара или погреба и мохнатой крысой (ratto), способной переносить ужасные болезни. Однако посмотрим, как словоупотребление может влиять на точность перевода. Беньямино даль Фаббро в своем переводе «Чумы» Камю говорит, что доктор Риэ как-то утром обнаруживает на ступеньках своего дома «мертвую мышь (sorcio)». Sorcio – изящное слово, служащее практически синонимом к слову topo. Возможно, переводчик выбрал слово sorcio из-за его этимологического родства с французским souris («мышь») – но если вглядеться в контекст, то животные, появившиеся в Оране, должны быть ужасными крысами. Любой итальянский читатель, обладающий хотя бы скромными металингвистическими познаниями (энциклопедического типа) и пытающийся вообразить себе возможный мир романа, вероятно, заподозрит, что переводчик допустил неточность. И действительно, если обратиться к оригиналу, мы увидим, что Камю говорит о крысах (rats). Даже если даль Фаббро побоялся использовать слово ratto, сочтя его чересчур ученым, ему, по крайней мере, следовало бы уточнить, что речь идет не о мышках.
Поэтому лингвистические системы сравнимы друг с другом, и вероятных двусмысленностей можно избежать, если переводить тексты в свете контекстов и в соотнесенности с тем миром, о котором говорит данный текст.
2.3. Тексты как субстанции
Какова природа текста и в каком смысле мы должны рассматривать его иначе, чем некую лингвистическую систему?
На рис. 1 мы видели, как язык (и вообще любая семиотика) отбирает в материальном континууме форму выражения и форму содержания, на основе которой могут производиться субстанции, то есть материальные выражения (как те строчки, что я сейчас пишу), передающие субстанцию содержания – или, говоря упрощенно, то, о чем «говорит» это специфическое выражение.
Однако немало двусмысленностей может возникнуть (и я причисляю себя к тем, кто более всего в этом виновен) из-за того, что для объяснения концепций Ельмслева, то есть ради дидактической наглядности, был предложен рис. 1.
Этот рисунок, конечно, показывает различия между разными концепциями формы, содержания и континуума, или материи, но он оставляет такое впечатление, будто речь идет о гомогенной, однородной классификации, хотя таковой она не является. При наличии одной и той же звуковой материи два языка, Альфа и Бета, расчленяют ее по-разному, производя две различные формы выражения. Комбинация элементов формы выражения соотносится с элементами формы содержания. Но это лишь абстрактная возможность, предоставляемая любым языком, и она имеет дело со структурой лингвистической системы. Коль скоро и форма выражения, и форма содержания намечены, материя, или континуум, прежде представлявшая собою бесформенную возможность, становится уже сформированной, а субстанции все еще не произведены. Поэтому в терминах системы, когда лингвист говорит, например, о структуре итальянского или немецкого языка, он рассматривает только отношения между формами[31 - Лингвиста текст «интересует как источник сведений о структуре языка, а не о содержащейся в данном сообщении информации» (Лотман 1994а: 202).].
Когда благодаря возможностям, предоставляемым лингвистической системой, совершается какая-либо передача вовне (звуковая или графическая), мы имеем дело уже не с системой, а с процессом, приведшим к формированию текста[32 - Оппозицию система / текст можно было бы заменить на соссюровскую язык / речь, и все осталось бы по-прежнему.].
Форма выражения говорит нам о том, каковы фонология, морфология, лексика, синтаксис того или иного языка. Что же касается формы содержания, то мы видели, как та или иная культура перекраивает континуум содержания (ресоrа «овца» / сарrа «коза», cavallo «лошадь» / cavalla «кобыла» и так далее), но субстанция содержания реализуется как смысл, который принимает тот или иной элемент формы содержания в процессе высказывания.
Только в процессе высказывания устанавливается, что, если исходить из контекста, слово «лошадь» (cavallo) относится к той форме содержания, которая противопоставляет его другим животным, а не к той, которая противопоставляет его, в терминологии портных, как ластовицу брюк (cavallo dei pantaloni) – поясу либо отворотам. Если есть два выражения: «Но я просил этот романс в исполнении другого тенора» (Ma io avevo chiesto la romanza di un altro tenore) и «Но я хотел получить иной ответ» (Ma iо volevo una risposta di un altro tenore), то именно благодаря контексту слово tenore утрачивает двусмысленность, порождая поэтому два высказывания, несущие различный смысл (которые нужно переводить по-разному).
Поэтому в тексте – который уже является актуализованной субстанцией — мы имеем дело с Линейной Манифестацией (с тем, что воспринимается при чтении или на слух) и со Смыслом или смыслами данного текста[33 - См. рис. 2, который я предлагал и комментировал в книге: Eco 1975.]. Встав перед необходимостью истолковать Линейную Манифестацию, я прибегаю ко всем своим лингвистическим познаниям, в то время как процесс куда более сложный происходит в тот момент, когда я пытаюсь различить смысл того, что мне говорят.
С первой попытки я стараюсь понять буквальный смысл, если он не сомнителен, и, если получается, соотнести его с возможными мирами: так, если я читаю, что Белоснежка ест яблоко (Biancaneve mangia una mela), я понимаю, что индивидуум женского пола постепенно надкусывает, пережевывает и проглатывает некий плод так-то и так-то, и выдвигаю гипотезу о возможном мире, где происходит эта сцена. Тот ли это мир, в котором я живу и где считается, что an apple a day keeps the doctor away[34 - * «В день по яблоку съедать – век болезней не видать» (англ.).]
, или же сказочный мир, где, съев яблоко, можно пасть жертвой колдовства? Если бы я принял решение во втором смысле, ясно, что мне пришлось бы обратиться к сведениям из энциклопедий, в числе которых – сведения литературного характера, и к интертекстуальным сценариям (в сказках обычно случается так, что…). Конечно, я буду и дальше исследовать Линейную Манифестацию, чтобы узнать что-нибудь об этой Белоснежке и о том месте и той эпохе, в которых разворачивается это событие.
Но следует отметить, что если я прочту фразу «Белоснежка съела листок» (Biancaneve ha mangiato la foglia), то, видимо, обращусь к иному ряду энциклопедических сведений, на основе которых установлю, что человеческие существа редко едят листья; отсюда я выведу ряд гипотез, подлежащих проверке в ходе чтения, чтобы решить, не зовут ли, часом, Белоснежкой – козочку. Или же (что кажется более вероятным) я задействую набор идиоматических выражений и пойму, что «съесть листок» (mangiare la foglia) – это идиома, смысл которой отличен от буквального, ибо она означает «смекнуть, в чем дело»; в этом случае фразу Biancaneve ha mangiato la foglia я пойму так: «Белоснежка смекнула, что к чему».
Равным образом на каждом этапе чтения я буду задаваться таким вопросом: о чем говорит как отдельная фраза, так и целая глава (и тем самым поставлю перед собой проблему: каков topic, то есть тема или содержание, данного дискурса)? Кроме того, на каждом шагу я буду пытаться выявить изотопии[35 - См.: Greimas (1966) и Eco (1979: 5).], то есть однородные уровни смысла. Например, если даны две фразы: Жокей остался недоволен конем (cavallo) и Портной остался недоволен ластовицей (cavallo), то, лишь выявив однородные изотопии, я смогу понять, что в первом случае речь идет о животном, а во втором – о детали брюк (если только контекст не опровергнет эту изотопию: когда речь зайдет, например, о жокее, сильно озабоченном элегантностью своего костюма, или о портном, помешанном на верховой езде).
Кроме того, мы задействуем общие сценарии, в силу которых, если я читаю, что Луиджи отправился поездом в Рим, я полагаю само собой разумеющимся, что он должен был пойти на станцию, приобрести билет и так далее, и только поэтому я не удивлюсь, если впоследствии текст сообщит мне, что Луиджи пришлось заплатить штраф, поскольку контролер поймал его без билета.
На этом этапе я, возможно, буду в состоянии по сюжетной схеме реконструировать фабулу. Фабула – это хронологическая последовательность событий, которую текст, однако же, может «монтировать» по иной сюжетной схеме: Я вернулся домой, потому что пошел дождь и Поскольку пошел дождь, я вернулся домой. Перед нами две Линейные Манифестации, передающие одну и ту же фабулу (я вышел из дому, когда дождя не было; пошел дождь; я вернулся домой) посредством различной сюжетной схемы. Само собой разумеется, что ни фабула, ни сюжетная схема не являются вопросами лингвистическими: это структуры, которые могут воплощаться в иной семиотической системе, в том смысле, что можно рассказать одну и ту же фабулу «Одиссеи» по одной и той же сюжетной схеме, но посредством фильма или даже комиксов. В случае краткого изложения можно сохранить фабулу, изменив сюжетную схему: например, можно пересказать события «Одиссеи», начав с тех событий, которые в поэме Одиссей будет впоследствии рассказывать феакам.
Как показали два примера (о том, что я вернулся, поскольку пошел дождь), фабула и сюжетная схема существуют не только в специфически повествовательных текстах. В стихотворении Леопарди «К Сильвии» есть фабула (была одна девушка, жившая напротив поэта, поэт ее любил, она умерла, поэт вспоминает ее с любовной тоской) и есть сюжетная схема (поэт, предающийся воспоминаниям, выходит на сцену в начале, когда девушка уже мертва, и она постепенно оживает в его воспоминаниях). Насколько важно соблюдать в переводе сюжетную схему, говорит нам тот факт, что адекватно перевести стихотворение «К Сильвии» невозможно, соблюдая фабулу, но пренебрегая сюжетной схемой. Перевод, изменяющий порядок сюжетной схемы, был бы просто кратким изложением, сделанным малышом для экзаменов, и мучительный смысл этого воспоминания был бы здесь начисто утрачен.
Именно в силу того, что по сюжетной схеме я восстанавливаю фабулу, мало-помалу в ходе чтения я буду преобразовывать пространные куски текста в пропозиции, которые их вкратце обобщают; например, дойдя в чтении до середины, я смогу «упаковать» то, что узнал, в одну фразу: «Белоснежка – юная и красивая принцесса, возбуждающая ревность своей мачехи, которая приказывает охотнику отвести ее в лес и убить». Но на дальнейшей фазе чтения я смогу придерживаться гиперпропозиции: «преследуемую принцессу принимают к себе семеро гномов». Эта «упаковка» пропозиций в гиперпропозиции (и это мы увидим дальше) будет тем, что даст мне возможность решить, какова та «глубинная» история, о которой повествует мне текст, и каковы, напротив, события побочные или второстепенные.
Отсюда я смогу приступить к выявлению не только возможной психологии персонажей, но и их вовлеченности в то, что называется актантными структурами[36 - См.: Greimas (1966: 8 и 1973).]. Если я читаю «Обрученных» Мандзони[22 - «Обрученные» Мандзони. «Обрученные» (I promessi sposi, 1825–1827), историч. роман итал. писателя-романтика Алессандро Мандзони (Manzoni, 1785–1873). Ткач Ренцо и крестьянская девушка Лючия – главные герои романа.], я осознаю, что есть два персонажа, Ренцо и Лючия, которые симметрично лишены объекта своих желаний; время от времени они оказываются перед различными инстанциями, которые то препятствуют им, то помогают. Но хотя в ходе всего романа Дон Родриго воплощает собою фигуру Противника, а Фра Кристофоро – Помощника, именно развитие текста позволяет мне, к моему великому удивлению, к середине истории перевести Безымянного персонажа с роли Противника на роль Помощника, удивляться тому, почему Монахиня, вышедшая на сцену как Помощница, впоследствии выступает как Противница, и, наконец, тому, насколько патетически двусмысленной, и именно потому весьма человечной, остается фигура дона Аббондио, который колеблется (сосуд скудельный среди сосудов железных) между противоположными функциями. И возможно, к концу романа я решу, что истинный доминирующий актант, который персонажи воплощают в себе один за другим, – это Провидение, противостоящее мировому злу, слабости природы человеческой и слепому ходу Истории.
Можно было бы и дальше анализировать различные текстуальные уровни, на которые способно завести меня чтение. Здесь нет хронологической последовательности от начала до конца или наоборот, поскольку, уже пытаясь понять содержание фразы или абзаца, я могу отважиться на гипотезу о том, каковы те большие идеологические структуры, которые текст пускает в ход, тогда как понимание одной простой финальной фразы может вмиг заставить меня отказаться от истолковательной гипотезы, помогавшей мне почти до конца чтения (обычно это происходит с детективными романами, играющими на моей читательской склонности выдвигать ошибочные предположения относительно развития событий и отваживаться на слишком поспешные моральные и психологические суждения о различных персонажах).
На нижеследующих страницах будет ясно показано, что истолковательная ставка на различные уровни смысла и на то, каким из них следует отдать предпочтение, является основополагающей для решений, принимаемых переводчиком[37 - Возвращаясь к Якобсону (Jakobson 1935) и традиции русских формалистов в целом, мы могли бы сказать, что переводчик должен сделать ставку на то, что?, по его мнению, является доминантой того или иного текста. Правда, понятие «доминанты», пересматриваемое ныне с временно?й дистанции, более смутно, чем кажется: порою доминирует техника (например, размер против рифмы), порою – искусство, в известную эпоху служащее образцом для всех прочих искусств (изобразительные искусства в эпоху Возрождения), порою – основная функция (эстетическая, эмотивная или другая) того или иного текста. Потому я не считаю, что это может быть концепцией, решающей проблему перевода; это скорее совет: «Отыщи то, что для тебя является доминантой данного текста, и на ней основывай каждый свой выбор и все исключения».]. Но дело в том, что столько же уровней можно выявить в той Линейной Манифестации, которую мы целиком сочли субстанцией выражения.
В действительности на уровне выражения есть много субстанций[38 - Я не ограничиваюсь здесь согласием с указанием Ельмслева, по которому «одна и та же субстанция предполагает, в свою очередь, множество аспектов, или, как мы предпочитаем говорить, множество уровней» (Hjelmslev 1954, итал. пер.: 229). Причина в том, что Ельмслев ограничивается упоминанием уровней характера физиологического: физические или акустические и аудитивные (зависящие от восприятия говорящего). Как можно увидеть, в настоящей работе, в свете развития семиотики текста, учитываются многие другие уровни, четко отделенные от уровня сугубо лингвистического. Дискуссию о различных уровнях субстанции см.: Dusi (2000: 18 ss.).].
Многообразие субстанций выражения имеет место и в невербальных системах: в фильме, конечно, в счет идут зрительные образы, но также ритм и скорость движения, слово, шум и другие типы звука, зачастую – надписи (будь то диалоги в немом кино, субтитры или графические элементы, снятые с натуры, если сцена разворачивается в обстановке, где появляются рекламные вывески, либо в библиотеке), не говоря уже о грамматике раскадровки и о синтаксисе монтажа[39 - См.: Metz (1971, итал. пер.: 164).]. В кадре важны субстанции, которые мы назовем линейными и которые позволяют нам распознавать различные образы, но также цветовые явления, соотношение цвета и тени, не говоря уже о точных иконологемах, позволяющих нам распознать Христа, Пресвятую Деву, монарха.
В вербальном тексте основополагающей является, несомненно, субстанция сугубо лингвистическая, но не всегда она имеет наибольшее значение. Фраза «передай мне соль» (passami il sale) может, как мы знаем, выражать гнев, вежливость, садизм, робость – смотря по тому, как она произносится, – и определять того, кто ее произносит, как человека образованного, неграмотного или комичного, если у него диалектный выговор (причем те же самые смыслы сообщились бы нам, если бы фраза гласила: «передай мне масло»). Все это такие явления, которые лингвистика считает супрасегментными и которые не имеют прямого отношения к системе языка. Если я скажу («передай мне, пожалуйста, соль – до меня тебе дело есть коль» (passami prego il sale – se di me pur ti cale), то вмешиваются явления стилистические (включая возвращение к классицизирующим интонациям), метрика и рифма (а могли бы вмешаться и эффекты звукового символизма). Насколько метрика чужда лингвистической системе, говорит тот факт, что структура одиннадцатисложника может быть воплощена на разных языках и проблема, терзающая переводчиков, состоит в том, ка?к передать ту или иную стилистическую черту или найти эквивалентную рифму, используя иные слова.
Поэтому в поэтическом тексте перед нами будет лингвистическая субстанция (воплощающая ту или иную лингвистическую форму), но также, например, субстанция метрическая (воплощающая ту или иную метрическую форму – скажем, схему одиннадцатисложника).
Но говорилось о том, что может существовать также субстанция звукосимволическая (у которой нет кодифицированной формы); и, если вернуться к стихотворению Леопарди «К Сильвии», всякая попытка перевести его первую строфу окажется несостоятельной, если не удастся (а обычно это не удается) добиться того, чтобы последнее слово этой строфы (salivi, «ты поднималась, восходила») было анаграммой имени Silvia. Разве что изменить имя девушки – но в таком случае будут утрачены многочисленные ассонансы на i, связывающие звучание как имени Silivia, так и слова salivi с синтагмой occhi tuoi ridenti e fuggitivi («очи твои, смешливые и уклончивые»).
Сравним оригинальный текст, где я выделил звуки i, с французским переводом Мишеля Орселя (где я, разумеется, не выделял букву i в тех случаях, когда она произносится иначе):
Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della tua vita mortale
Quando belt? splendea
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di giovent? salivi?
[Сильвия, ты еще помнишь
Те дни своей жизни смертной,
Когда краса сияла
В очах твоих, смешливых и уклончивых,
И ты, счастливая, задумчивая, на порог
Юности восходила.]
Sylvia, te souvient-il encore
Du temps de cette vie mortelle,
Quand la beautе brillait
Dans tes regards rieurs et fugitifs,
Et que tu t’avan?ais, heureuse et sage,
Au seuil de ta jeunesse? (Orcel)
Переводчик вынужден был пожертвовать соотношением Silvia / salivi – и не мог поступить иначе. Ему удалось ввести в текст много i, но соотношение оригинала с переводом – 20 к 10[23 - Соотношение оригинала с переводом – 20 к 10. В рус. переводе, сделанном для настоящего издания, это соотношение равно 20 к 15 (а если учесть звук, обозначаемый буквой й, то 20 к 17). В рус. переводе Н.С. Гумилева (см. с. 587) это соотношение равно 20 к 13 (а с учетом й – 20 к 16).]. Кроме того, в тексте Леопарди звук i ощутим, поскольку шесть раз он повторяется в пределах одного слова (Silvia, rimembri, ridenti, fuggitivi, limitare, salivi), тогда как во французском переводе это происходит лишь однажды (fugitifs). Впрочем, вполне очевидно, что даже доблестный Орсель вел безнадежную битву, поскольку итальянское Silvia, неся ударение на первом i, продлевает его тонкое очарование, тогда как французское Sylvia (в котором из-за отсутствия тонического ударения в данной лингвистической системе ударным неизбежно становится финальное а) производит впечатление более грубое.
И это утверждает нас в общем убеждении, гласящем, что в поэзии именно выражение диктует законы содержанию. Содержание должно, так сказать, приспособиться к препятствию, чинимому выражением. Принцип прозы – rem tene, verba sequentur[40 - * «Держись сути, слова? приложатся»[212 - «Держись сути, слова приложатся». Изречение Марка Порция Цензория Катона Старшего (Cato Maior, 234–149 до н. э.), рим. политика, военачальника и оратора.](лат.), пер. М.Л. Гаспарова.]
; принцип поэзии – verba tene, res sequentur[41 - ** «Держись слов, а суть дела приложится» (лат.).]
[42 - 1 См.: «Il segno della poesia e il segno della prosa» («Знак поэзии и знак прозы»): Eco (1985).]
.
* * *
Поэтому мы действительно должны будем говорить о тексте как о явлении субстанции, но в обоих его планах нам придется выявить различные субстанции выражения и различные субстанции содержания, или же в обоих планах – различные уровни.
Поскольку в тексте с эстетической направленностью устанавливаются тонкие отношения между различными уровнями выражения и содержания, вызов, бросаемый переводчику, касается способности выявить эти уровни, передать один или другой из них (или все, или ни одного из них) и суметь поставить их в то же самое отношение друг к другу, в котором они стояли в оригинальном тексте (если это возможно).
Глава третья