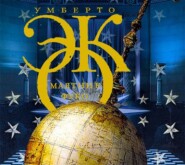По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Интеллигентская функция выражается, подытожим, как в новаторстве, так и в критическом отношении к существующему знанию или существующему обычаю, а в особенности – в критическом отношении к собственному высказыванию. Поэтому не является творчеством сочинение поэта, не ведающего, какие готовые общие места он перепевает. И в то же время очень даже творческую работу проделывает историк-ревизионист, наново прочитывая давно известный документ. Творчески работает и литературный критик, и даже простой учитель литературы, не пишущий собственных работ, но предлагающий читать совершенно в новом ключе произведения, сочиненные не им, а теми, кто работал прежде него или вместо него: через это новаторское чтение он выражает собственный поэтический подход. А наш коллега университетский профессор, вечно и уныло бубнящий тексты учебников, заученные для экзаменов в молодости, и воспрещающий студентам отступать от этих текстов, не может быть назван новатором и интеллигентскую функцию не выполняет.
Мое определение не исключает тех новых идей, которые рассчитывались «на длинную дистанцию» и до поры до времени считались истинными и качественными, но именно от длительности пробега в конце концов обнаруживали свою ошибочность, – я имею в виду, скажем, астрономию Птолемея[66 - Клавдий Птолемей (первая половина II в.) – греко-египетский геометр, физик и астроном, утвердивший геоцентрическую модель Вселенной, не менявшуюся на протяжении 1400 лет.] или Тихо Браге. Я вижу творческое начало и в гипотезах, оказывающихся ложными, но перед тем успевающих помочь нам в существовании. К сожалению, в эту категорию я должен поневоле впустить и все сумасшедшие теории. В этом повинны те культуры, которые много веков почитали юродивых носителями высшей истины. И все-таки творческое начало интеллигентской функции определяется в конечном счете проверкой на «приемлемость»/«неприемлемость». Можно было бы сказать, что Гитлер проводил интеллектуальную работу, сочиняя «Майн Кампф», потому что неоспоримо, что есть нечто кошмарно-креативное в гитлеровской идее нового миропорядка; в этом смысле креативен сон разума, порождающий чудовищ[67 - «Сон разума порождает чудовищ» (El sue ? o de la raz о n produce monstruos) – фабула офорта Франсиско Гойи.]. Понимая неизбежность подобных возражений, я хочу напомнить, что в моем определении интеллигентской функции заложено, конечно, новаторство, но – в обязательном сочетании с критикой и самокритикой. Гитлер, в итоге, не креативен: он не продемонстрировал способности к самокритике.
Поэтому даже при умственном характере труда не выполняет интеллигентскую функцию тот, кто официально и по заслугам назначается рупором идей своей группы. Не является интеллигентом ни высокопрофессиональный партиец, ни высококвалифицированный рекламщик. Ни один работник политической пропаганды не решится сказать о своей партии, что она не дотянула до идеала, и ни один рекламщик не отважится признать, что его порошок стирает хуже конкурентского. Рекламщики не самокритичны. Но мы, пусть порошок и хуже, восхищаемся рекламным слоганом: хоть лжив, да остроумен. По эстетическим причинам забавное вранье имеет право на существование.
Полагаю, что указанная дистинкция между умственным трудом и исполнением интеллигентской функции структурно соответствует противопоставлению в работах Боббио политики культуры и культурной политики. Боббио описал это противостояние в одном очерке 1952 года: «Политика культуры, то есть политика людей культуры, направленная на защиту условий существования и развития культуры, противопоставляется культурной политике, то есть регулированию культуры политиками» (там же, с. 22).
В свете этой дистинкции Боббио ставил вопрос, что должны делать интеллигенты (они же люди культуры, в смысле – те, кто осуществляет интеллигентскую функцию, а не только занимается умственным трудом). Боббио не соглашался считать, что интеллигент обязан быть ангажированным политически и социально, хотя именно эта точка зрения доминировала в политических дискуссиях в пятидесятые годы.
Боббио утверждал, что лишь в обществах, функционирующих ненормально, интеллигенты играют чрезвычайную роль в качестве пророков или оракулов. Под ненормально функционирующим обществом Боббио имел в виду современную ему Италию. Италия избывала последствия войны и Сопротивления – и жила в те годы так, будто новое потрясение было неотвратимо. Когда общества функционируют ненормально, члены их не работают на единый результат (это Боббио исподволь адресуется к фихтеанской теории о назначении ученого), а разобщаются и пикируются между собою.
Элементы вражды и разобщенности окружали Боббио, конфликтуально простраиваясь в две альтернативы, равно неприятные для Боббио по причине своей догматичности. Если перечитать материалы дискуссий, в которых участвовал тогда Боббио, то видно, что первой альтернативой было противостояние Востока и Запада (то есть противопоставление мира социализма миру либерал-капитализма), а второй – противостояние политической ангажированности желанию устраниться от политической ответственности.
Размышляя о роли интеллигентской оппозиции, пускай порой и молчаливой, в период фашистской диктатуры, Боббио осмыслял идеи работы Грамши «Интеллигенция и организация культуры» (Gli intellettuali e l ’ organizzazione della cultura) и работы Бенда «Предательство клерков» (La trahison des clercs) – и приходил к выводу, что имел место (цитирую) «революционный процесс в действии» (там же, с. 103). С одной стороны, Боббио был обворожен этим революционным процессом и не собирался клеймить его (и обзывать Империей Зла), а с другой стороны, Боббио полагал, что пред лицом любого «революционного процесса в действии» задача интеллигентов – следить, чтобы свобода и справедливость не вступали в противоречие друг с другом. Поэтому когда Боббио полемизировал с Бьянки Бандинелли или с Родриго из Кастильи[68 - Рануччо Бьянки Бандинелли (1900—1975) – итальянский археолог, ученый, крупнейший знаток этрусского и греко-римского искусства, не поддержал фашизм и в 1930-е годы находился в удалении от власти. Был близок к марксизму. Родриго из Кастильи – журналистский псевдоним Пальмиро Тольятти (1893—1964), основателя журнала Ordine nuovo, на протяжении тридцати лет – генерального секретаря Компартии Италии.], главная мысль его была – что политическая функция культуры состоит в защите свобод (там же, с. 91). Он многократно повторял следом за Кроче[69 - Бенедетто Кроче (1866—1952) – итальянский философ, политик, литературный критик. Работал в русле гегелевского идеализма и историзма. Поначалу поддержал фашизм на том основании, что суждение историка должно быть свободно от моральных оценок. Впоследствии переменил свою позицию после убийства в 1924 г. депутата-социалиста Джакомо Маттеотти. После выхода пояснявшего и оправдывавшего фашизм «Манифеста фашистских интеллектуалов», написанного философом Джованни Джентиле и подписанного многими представителями итальянской интеллигенции, Кроче создал «Манифест антифашистских интеллектуалов» – обвинительный документ против режима. В эстетическом плане Кроче наделял художника абсолютной свободой и защищал теорию искусства для искусства.], что либеральная теория – не политическая, а метаполитическая теория, моральный идеал, воплощенный в «партии интеллигентов» (там же, с. 93). Однако, противопоставляя этот идеал своим оппонентам-коммунистам, Боббио критиковал того же Кроче за то, что он после войны отождествил «неполитическую силу» с одной из партий, сформировавшихся в послевоенные годы. То есть Боббио, в качестве либерала, существующего выше политики, выступил против политизации Кроче, отождествившего себя с либеральной партией.
Однако если задача «партии интеллигентов» была отстаивать свободу, значит, члены этой мета-политической партии не могли уклониться от политической ангажированности. Проблема состояла в том, что оппоненты Боббио представляли себе политическую ангажированность неотторжимой от образа интеллигента, декларирующего свою причастность к некоей партии. Так намечалась новая демаркационная линия, ибо, вероятно, Боббио стоял на тех же позициях, что и поздний Витторини[70 - Элио Витторини (1908—1966) – итальянский писатель и издатель, участник Сопротивления, антифашист, поддерживавший испанских республиканцев. В 1951 г. в статье в газете La Stampa «Пути бывших коммунистов» (Le vie degli ex comunisti) проанализировал причины собственного выхода из Итальянской Коммунистической партии, а также выхода многих друзей.], то есть полагал, что интеллигентам невместно подыгрывать революции на дудке.
Но разве можно быть ангажированным и не подыгрывать на дудке?
Боббио считал: интеллигентам положено не только создавать идеи. Их дело также – направлять процессы обновления. Боббио повторял за Джайме Пинтором[71 - Джайме Пинтор (1919—1943) – итальянский антифашист, коммунист, писатель и литературный критик.]: «Революции удаются, когда их готовят поэты и художники, при условии, что поэты и художники будут помнить свое место» (Pintor G. Il sangue d ’ Europa. Torino: Einaudi, 1950). Вопрос, однако, был именно в этом: какое же место следует помнить интеллигенции, если ей не пристало солидаризироваться ни с политизированной культурой («которая подчиняется директивам, программам, диктатам, идущим от политиков»), ни с аполитичным затворничеством в башне из слоновой кости (Politicа e cultura, c. 20)?
Тут-то Боббио и отвергает позицию «над схваткой», которая еще подходит и под описание «ни вашим, ни нашим» (вариант: «и вашим, и нашим»), и снова сосредоточивается на концепции «политики культуры». Эта «политика культуры» ставит себе целью обобщающую работу и критику действий обеих сторон, без каких бы то ни было стараний нащупать «третий путь». Боббио не был сторонником «третьего пути». Он считал, что интеллигенту важно определиться, на чьей он стороне, но, определившись (долг интеллигенции при любых условиях), ему следует посредничать, критикуя, выявляя и подчеркивая перед оппонентами и, что еще более важно, перед сторонниками любые внутренние противоречия и тех и других. Сам Боббио выполнял этот труд с добросердечной беспощадностью, в частности – в ходе полемики с Бьянки Бандинелли, «часовым пролетариата».
Я процитировал работу Боббио 1951 года, в которой сказано, что задача интеллигентов – сеять сомнения, а не охотиться за истинами. Это кажется трюизмом теперь, когда я пишу, но Боббио провозгласил это в эпоху, когда прогрессивная интеллигенция требовала от ученых, чтобы те выдавали миру истины. Урок поведения Боббио, думаю, полезен и сегодня.
Прошло много лет, и меня пригласили на конгресс, организованный Миттераном и его помощниками в Париже. Тема конгресса была «Роль интеллигента в кризисных условиях современного общества». Миттеран не был философом, хотя был начитанным человеком, так что простим ему наивность постановки вопроса, к тому же не исключаю, что сама по себе эта формулировка – на совести распорядителя конгресса, Аттали[72 - Жак Аттали (р. 1943) – французский писатель и журналист, советник Франсуа Миттерана.]. В общем, мое выступление было суперкоротким и разочаровало всех, чем я не перестаю гордиться и по сегодня. Я сказал только одну фразу: «Интеллигенция не должна справляться с кризисами, интеллигенция должна устраивать кризисы».
Кому же интеллигенция должна устраивать эти кризисы? А вот смотрите, какой еще один великий урок можно извлечь из учения Норберто Боббио. Мне смешно, когда в разговорах о послевоенной Италии ссылаются на тогдашнюю «гегемонию левых сил» и причисляют Боббио к защитникам Империи Зла: это при том, что Боббио всю жизнь полемизировал именно с левыми силами, претендовавшими на гегемонию. Это означает, что главным уроком Боббио или, по крайней мере, главным уроком, который извлек лично я из учения Боббио в то время, было: интеллигент действительно обязан быть критиком, а не глашатаем, и он обязан прежде всего критиковать своих. «Свои» не всегда означает «члены той же партии», потому что не всегда интеллигент – член партии. «Свои» – это те, кого интеллигент намерен идейно поддерживать. Именно им он и обязан устраивать, по моей идее, кризисы.
Если нужны цитаты – пожалуйста. Я нашел их немного, зато сочных. Например, Боббио говорил, что сколь угодно солидаризируясь с политическими силами, интеллигенты должны прежде всего критически выявлять любые натяжки и передержки (там же, с. 24), что «не будучи нейтральными, то есть предпочитая какую-то из многих политических сил, вполне можно соблюдать беспристрастность; беспристрастность – это не значит никому не отдавать предпочтения; быть беспристрастным – значит разумно судить, мыслить и признавать правоту то той, то этой стороны. Или не признавать правоту ни одной стороны, если не правы обе. Наконец, признавать правоту обеих, если права и та, и та» (там же, с. 117).
Боббио повторял, что «можно быть беспристрастными, не придерживаясь нейтралитета» (там же, с. 164) и что «превыше обязанности вступать в борьбу для интеллигентного человека важно право не принимать правил борьбы в единожды данном виде, право подвергать эти правила обсуждению, критиковать их, подвергать критике разума», ибо «превыше обязанности участвовать – право узнавать» (там же, с. 5), и, наконец, «было бы крайне важно, если бы интеллигенты защищали автономию культуры внутри собственной партии или собственной политической силы, в сфере тех политических идей, которые они свободно себе избрали и для споспешествования которым они согласны приложить усилия. Усилия людей культуры» (там же, с. 33).
Этих цитат хватило, чтобы составить для меня, тогда еще молодого читателя, квинтэссенцию моих собственных воззрений на проблему участия интеллигенции в политике. Вследствие чего в 1968 году, когда меня, «вольного стрелка», пригласили высказаться на тему политической ангажированности в ходе одного из партийных съездов, я заявил, что первейший долг интеллигента – критиковать единомышленников, даже под угрозой расстрела на месте. То есть из чтения работ Боббио я вынес твердое убеждение, что интеллектуал означает наблюдатель и резонер. И в общем, я до сих пор считаю, что эта позиция – единственно приемлемая.
В том давнем выступлении я использовал одну метафору, взятую, кстати, не у Боббио, а у Кальвино. Я сказал: интеллигент участвует в событиях, не слезая с дерева.
Имелась в виду книга Итало Кальвино «Вьющийся барон»[73 - Изд. на рус. яз.: Кальвино И. Барон на дереве. М.: Радуга, 1984. Пер. Л. Вершинина.]. Роман Кальвино вышел в 1957 году, то есть через два года после публикации книги «Политика и культура». Роман Кальвино создавался в то пятилетие, когда печатались в прессе статьи Боббио, о которых мы сейчас говорим. Не помню, спросил ли я об этом самого Кальвино, не помню, подтвердил ли он мою догадку в разговоре, но я всегда придерживался мнения, что, создавая своего героя барона Козимо Пьоваско ди Рондо, живущего на вершинах деревьев, Кальвино думал о Боббио, воспроизводил взгляд Боббио на роль интеллигента в обществе. Барон Козимо Пьоваско не устраняется от обязанностей, диктуемых временем, он участвует в крупных исторических событиях своей эпохи, но с критической дистанции (в отношении своих же собственных товарищей), то есть с высоты родного дерева. Ему незнакомо ощущение «твердой почвы под ногами», зато какая широкая панорама открывается ему! Он переместился на дерево не чтоб уклониться от жизненных обязанностей, а чтоб не стать ополовиненным виконтом или несуществующим рыцарем[74 - У итальянского писателя Итало Кальвино (1923—1985) в трилогии «Наши предки» («Ополовиненный виконт» – Il visconte dimezzato, 1952; «Вьющийся барон» – Il barone rampante, 1957; «Несуществующий рыцарь» – Il cavaliere inestistente, 1959) действует молодой барон Козимо Пьоваско, который отправляется жить на дерево, чтоб спастись от гнева отца и не есть улиток на ужин, и проводит там всю жизнь.]. Поэтому «Вьющийся барон» – не фантазия и не сказка, а философическая conte[75 - Под contes У. Эко имеет в виду прежде всего «Философские повести» Вольтера: «Задиг, или Судьба» (Zadig ou la Destin е e, 1747), «Микромегас» (Microm е gas, 1752), «Кандид, или Оптимизм» (Candide, ou l ’ optimisme, 1759) и др. Их жанр – соединение традиционной философской повести (традиция Монтескье и Джонатана Свифта) с пародией на романы о приключениях. Как писал Пушкин, «Вольтер наводнил Париж произведениями, в которых философия заговорила общепонятным и шутливым языком» (О ничтожестве литературы русской, 1834).] как мало какая другая.
Но вернемся теперь к Боббио. Чтобы интеллигенту соблюсти себя в качестве наблюдателя и резонера, он должен быть довольно-таки выраженным пессимистом, пессимистом в намерениях и особенно в помыслах. Перечитаем заключительную часть «Назначения ученого», посмотрим, в чем же Боббио так сильно не совпадает с Фихте. Фихте, которому претит руссоистский пессимизм, завершает свое обращение к студентам декларацией исторического диалектического оптимизма:
Чем благороднее и лучше вы сами, тем болезненнее будет для вас предстоящий вам опыт, но не давайте этой боли себя одолеть, но преодолевайте ее делами. На него рассчитываю, он также учтен в плане улучшения рода человеческого. Стоять и жаловаться на человеческое падение, не двинув рукою для его уменьшения, – значит поступать по-женски. Карать и злобно издеваться, не сказав людям, как им стать лучше, – не по-дружески. Действовать! действовать! – вот для чего мы существуем. Должны ли мы сердиться на то, что другие не так совершенны, как мы, если мы только совершеннее; не является ли этим большим совершенством обращенный к нам призыв с указанием, что это мы должны работать для совершенствования других? Будемте радоваться при виде обширного поля, которое мы должны обработать! Будемте радоваться тому, что мы чувствуем в себе силы и что наша задача бесконечна!
А вот концовка Боббио:
Я просветитель-пессимист. Если угодно, просветитель, многое перенявший у Гоббса, у де Местра[76 - Граф Жозеф Мари де Местр (1753—1821) – французский публицист, политический деятель и философ, мечтавший провести в жизнь новый религиозный миропорядок; идеолог консервативной революции и возврата к средневековой монархии и теократии.], у Макиавелли и у Маркса. В принципе я убежден, что пессимистическое мировоззрение приличествует человеку разумному больше, чем оптимистическое. Оптимизм предполагает восторженность, человеку разумному восторженность не свойственна. Оптимисты и те, кто считает историю драмой, но драмой со счастливым концом. Я знаю только, что история – драма, но мне неизвестно, счастливый ли у нее конец. Оптимисты – это другие, это такие люди как Габриэль Пери[77 - Габриэль Пери (1902—1941) – французский журналист, коммунист, расстрелянный немцами в декабре 1941 г. В своем предсмертном стихотворении он писал: Je vais pr е parer tout ? l ’ heure des lendemains qui chantent. Je me sens fort pour affronter la mort. Adieu et que vive la France («Я готовлю поющие “завтра”. Я силен – достаточно, чтоб встретить смерть. Прощайте, и да здравствует Франция»). Ему посвящено стихотворение Поля Элюара и очерк Луи Арагона.], который, умирая со славой, писал: «Готовлю поющие завтра». Завтра наступили, но песен мы не слышим. Озираюсь: какие песни! Одно рычание.
Я пессимист, но я не отвергаю мир. Я исповедую здоровое воздержание, оргии оптимизма кончились. Теперь – спокойный отказ участвовать в пире риторов, в бесконечном праздновании. Жест пресыщения – не отвращения. Пессимизм не препятствует деятельности, напротив, придает ей сосредоточенность, придает цельность. Между оптимистом, лозунг которого: «Не будем беспокоиться, все само собой наладится», и пессимистом, чей ответ звучит: «Делай каждый день, что ты должен, даже если все идет хуже и хуже», я выбираю пессимиста. <…> Я не говорю, что все оптимисты – пустобрехи, но все известные мне пустобрехи – оптимисты. Мне не удается отъединить в сознании слепую веру в историческое или божественное провидение от суетности тех, кто считает себя центром мира и думает, будто все произойдет по его хотению. Я ценю и уважаю, напротив, тех, кто работает, не требуя никакого обещания от мира, никакой гарантии, что мир исправится, не ожидает не то что наград, но даже и подтверждений. Только славный пессимист способен действовать со свободным умом, с крепкой волей, себя не выпячивая, с предельной преданностью собственным обязанностям» (там же, с. 169—170).
Таково, и по мне, пересмотренное представление о назначении ученого.
Просвещение и здравый смысл[78 - Illuminismo e senso comune. Выступление на дискуссии о Просвещении, организованной Эудженио Скальфари. La Repubblica, январь 2001 г. Опубликовано в сборнике материалов «Актуальность Просвещения» (Attualit ? dell ’ illuminismo. Bari: Laterza, 2001).]
Вот мы тут спорим о Просвещении, и мне захотелось поспорить кое с чем конкретно. А именно – с тезисом Маффеттоне[79 - Себастьяно Маффеттоне (p. 1948) – итальянский философ, председатель Итальянского общества политической философии. Близок к позициям левой светской либеральной философии (линия, идущая от Гобетти к Боббио). Эко имеет в виду статью в La Repubblica 30.12.2000 г.] (с которым я, должен сказать, соглашаюсь по остальным пунктам) насчет того, что хотя Эудженио Скальфари[80 - Эудженио Скальфари (р. 1924) – итальянский журналист, в 1976 г. основал и до 1996 г. был главным редактором газеты La Repubblica, которая является рупором леволиберальной интеллигенции и соперничает с Corriere della Sera, занимающей более консервативную позицию.] всю жизнь занимается Просвещением, это якобы совсем не чувствуется теми, кто читает курируемые Скальфари литературный и научный разделы газеты «Репубблика».
Ну зачем же так преувеличивать. Если не считать раннего периода (двадцать лет назад культурная страница в «Репубблика» была зациклена на проблеме дисбаланса между Северной Италией и Южной, потому что в то время Скальфари, как и все остальные, был посткрочеанцем)[81 - Крочеанцы – мыслители, отличавшиеся живым отношением к реальности, подобно Бенедетто Кроче. Б. Кроче в послевоенный период часто отходил от философских тем, предаваясь политическим размышлениям. Кроче живо интересовался так называемым «южным вопросом» (questione meridionale) – то есть проблемами, вставшими перед молодым объединенным государством: требовала осмысления и актуальных программ резкая экономическая диспропорция Севера (капиталистического и индустриализированного) и Юга (аграрного, отсталого). Фраза Эко о «посткрочеанцах», надо полагать, слегка иронична: имеется в виду политизированность образа мышления в ущерб философским обобщениям.], раздел культуры состоит в равных пропорциях из статей о Ницше и из рассуждений в духе литературных салонов XVIII века, так что определенная доза Просвещения там вполне наличествует. Коль уж на то пошло, это газету «Коррьере делла сера» можно упрекнуть в некотором перекосе в сторону божественной тематики.
Но мы говорим не об этом.
Лучше давайте определим, что значит быть последователем Просвещения в сегодняшние времена. Эпоха Просвещения ушла, и, по мне, малопродуктивно переквалифицироваться в столяров, как Дидро. Определим первостепенную посылку интеллектуальной этики просветительства – быть готовыми критически пересматривать не только любое верование, но и все то, что наука застолбила в качестве непререкаемых истин. Выделить некоторые обязательные условия и при их наличии опираться не на «твердое основание» (по Гегелю), а на нормальный здравый смысл. Ибо основное наследие Просвещения к тому и сводится: есть на свете рассудительный способ рассуждать, и, ведя себя разумно, всем бы следовало рассуждать, договариваться и соглашаться друг с другом. Философию тоже следовало бы подчинить здравому смыслу.
Значит, необходим здравый смысл – не столь всеохватный, как «голый разум» Бёрка[82 - Эдмунд Бёрк (1729—1797) – ирландский государственный деятель и политический теоретик. «Голый разум» (naked reason) – выражение, использованное Бёрком в трактате «О вкусе» (ок. 1756). По мнению Бёрка, люди скорее приходят к согласию в эстетических суждениях, чем в теоретических вопросах «голого разума».], но все-таки очень полезный. Хотя, конечно, боже упаси воспринимать собственную разумность как нечто метафизическое и высокое. Просто-напросто, помните, у Лейбница? Хорошо, когда все садятся вокруг стола и говорят «посчитаем» (calculemus).
Поэтому я думаю, что порядочный просветитель – это тот, кто имеет представление о том, «как устроен мир». Этот минималистски-реалистичный подход недавно было заново упрочен Серлем[83 - Джон Роджерс Серль (р. 1932) – американский философ языка и автор концепции «интенции», создающей предпосылки для лингвистического акта. Серль ввел в теоретическую лингвистику практические эксперименты, в частности – проделал известный «эксперимент с китайской комнатой», доказывая, что искусственный разум (компьютерный), не имея «интенциональности» лингвистического акта, может расцениваться только как неосмысленный исполнитель полученных извне инструкций.], который отнюдь не всегда прав, но иногда у него бывают дельные и резонные мысли. Говоря «мир устроен так-то», мы отнюдь не заявляем, будто познали мир или надеемся когда-то познать его. Но, несмотря на то, что нам не суждено никогда познать мир, он все равно будет устроен так-то, и нисколько не иначе. Даже те, кто полагает, будто мир сегодня устроен так, а завтра эдак, то есть что мир странен, хаотичен и непостоянен, что законы мира меняются то и дело наперекор метафизикам и космологам, – даже они согласятся, что капризность и непостоянство мира грамматически описываются с помощью фразы «мир устроен так-то».
А следовательно, имеет смысл продолжать стараться и описывать как можно большее число вещей мира.
Когда-то я сказал Ваттимо, что верю в законы природы, то есть знаю: если скрестят кобеля с сукой, родится собака, а если скрестят кобеля с кошкой, или не родится ничего, или родится такое, что упаси нас господь увидеть в своей квартире. Ваттимо на это отвечал, что в нынешнюю эру генные инженеры уже научились менять характеристики видов. Ну да, парировал я: если для того, чтоб скрестить кошку с собакой, нужно привлекать инженеров (то есть искусство), это значит, что было первоначальное естество, природа, над которой впоследствии совершили неестественность, то есть природу извратили искусством. Выходит, что я больший просветитель, нежели Ваттимо, – думаю, он не огорчится, услышав эти слова.
Здравый смысл подсказывает: во многих случаях можно договориться о представлениях, как устроен мир. Говоря, что солнце встает на востоке и заходит на западе, мы соответствуем здравому смыслу, хотя в астрономическом отношении это условность. Но бессмысленно писать примечания, что это не солнце встает, это земля поворачивается. Кто знает, а может быть, вся Галилеева космология заслуживает пересмотра? Мы видим, что солнце с одной стороны встает, на другую сторону заходит, об этом гласит наш здравый смысл, со здравым смыслом не поспоришь.
Во время работы над этой статьей я получил известие о смерти Куайна[84 - Виллард Ван Орман Куайн (1908—2000) – американский философ, теоретик философии языка и логик, крайне важный для формирования научных взглядов У. Эко. Противопоставил теории американского языковеда Ноама Хомского (р. 1928) идею о недетерминированности концепции тотального перевода. В математике отрицал принципиальную разницу между аналитическими и синтетическими методами. Внес неоценимый вклад в онтологию научных теорий работами: «Новые основания математической логики» (1937); «Математическая логика» (1940); «Проблема значения» (1953); «Слово и объект» (1960); «Вещи и теории» (1981); «Quidditates» (1987). Пример с Гавагаем взят из книги «Слово и объект» (Word and Object, 1960. Рус. пер.: Праксис, 2000).]. Куайн был эмпиричнее всех остальных эмпириков, он даже позволял себе заявлять, что повторяющаяся интерпретация некоего слова вызывается стереотипным автоматизмом наших реакций на повторяющиеся стимулы. Однако тот же Куайн сказал, что никакое утверждение не бытует в одиночку, что утверждения способны бытовать только в контексте культурных условностей. Как примирить эту пару заявлений, с виду взаимопротиворечащих? Опыт сообщает нам, что на нас капает с неба вода, культурные условности подсказывают вывод, что, кажется, день дождливый.
Если еще до того как начинать спорить, что такое «дождь» в представлении метеорологов, собеседники способны согласиться, что на всех участников дискуссии с неба капает вода, – эти собеседники замечательные минималисты-просветители.
Мы помним чудесный пример у Куайна насчет Гавагая, который я перескажу в вольном и кратком виде.[85 - Пример из книги Dire quasi la stessa cosa (У. Эко. Сказать почти то же самое. СПб: Симпозиум, 2005. С. 43). Jungle linguist описан Куайном в его очерке «Значение и перевод» из книги «Слово и объект». Этим же примером вдохновлен образ Гавагая – одного из героев романа У. Эко «Баудолино».]
Некий путешественник не знает ни слова туземного языка. Перед путешественником в густой траве пробегает кролик. Путешественник вопросительно глядит на туземца. Тот восклицает: «Гава-гай!» Может, это значит, что на туземном языке «гавагай» означает «кролик»? Не обязательно. Может быть, «гавагай» значит «зверь» или «бегущее существо». Непонятно, но ничего страшного. Нужно просто повторить тот же опыт, когда пробежит собака или когда путешественники и туземцы увидят неподвижного кролика. Однако что, если туземец подразумевал под «гавагай» колыхание травы при пробеге быстрой твари? Или он хотел сказать, что изменяется положение предмета в пространстве и времени? Или что лично он любит жареных кроликов? Мораль: путешественник может только выстраивать предположения, он может создавать для себя свое собственное пособие по переводу, которое, возможно, ничем не лучше любого другого пособия. Важно, однако, чтобы внутри пособия соблюдалась определенная логика.
Порядочный просветитель, таким образом, подвергнет сомнению любое существующее пособие по переводу. Но он не станет отрицать, что туземец при виде бегущего в густой траве кролика вскричал «Гавагай!», а до той минуты, пока он любовался небом, он не кричал «Гава-гай». Туземец сказал это слово, только когда его взор обратился на место, где путешественник видел кролика.
Я уверен, что подобный подход уместен и при решении самых сложных вопросов. Прав ли Папа, утверждая, что эмбрионы – человеческие существа? Или прав Фома Аквинский, пишущий, что эмбрионам не суждено будет воскреснуть в Судный день? Это решается исходя из культурных контекстов. Однако необходим здоровый эмпиризм, чтобы все решающие одинаково признавали разницу между эмбрионом, плодом и новорожденным. Установим, о чем спор, и установим, что как называется, – а уж потом calculemus.
Есть ли не трансцендентная этика, которую любой уважающий себя мини-просветитель должен признавать? Думаю, да. В принципе, любое человеческое существо желает обладать любой вещью, которая нравится. Дабы обладать, существо должно отобрать эту вещь у другого существа, которому она тоже нравится. Лучшее решение – убить другого. Homo homini lupus, побеждает сильнейший. Но этот закон не может быть тотальным, ибо кто перебьет всех, тот останется в одиночестве, а человек – общественное животное. Адаму нужна как минимум Ева – не столько для удовлетворения сексуального чувства (обошелся бы козой), сколько для воспроизведения генотипа. Если Адам убьет Еву, Каина и Авеля, он станет одиноким животным.
Поэтому людям приходится договариваться о добрососедстве и взаимном уважении. То есть они вынуждены подписывать общественный договор. Когда Иисус говорит, что любит ближнего, когда нас призывают не делать ближним того, что мы не хотим, чтобы делали нам они, Иисус – отменный просветитель (и вообще он всегда на просветительских позициях, за исключением заявления, будто сам является сыном Бога – потому что это заявление не может подтвердить никто, кроме самого Иисуса, а следовательно, оно бездоказательно, а следовательно, оно основывается на вере, а не на здравом смысле).
Просветитель думает, что можно выработать этику, даже очень сложную, и даже геройскую (допустим, что уместно пойти на смерть, дабы спасти жизнь своих детей), основываясь на принципах разумных договоренностей.
Наконец, просветителю известно, что у людей есть пять первостепенных потребностей. В данный момент я сумел подобрать именно пять. Это питание, сон, любовь (в том числе половая, хотя в принципе это всякая привязанность – в том числе к домашним животным), игра (то есть когда занимаются чем-то просто для удовольствия) и установление причин явлений.
Я выстроил потребности по степени их жизненной насущности, но убежден, что даже маленький ребенок, после того как он накормлен, поспал, поиграл, научился узнавать маму и папу, неизбежно захочет понять, по какой причине что-то как-то устроено. Первые четыре потребности присущи всякому животному, пятая типична для людей и предполагает пользование языком.
Основная причина, которую люди хотят выяснить, – это причина существования вещей. Философ хочет понять, почему существует бытие и не существует «ничто», но этот вопрос нисколько не крупнее вопроса обычного человека, гадающего, по какой причине сотворился мир и что было в мире до сотворения. Пытаясь найти причину, человек создает пантеон богов (или познает их, не важно – не хочу вдаваться в богословские тонкости).
Следовательно, просветитель, кроме всего прочего, знает, что, когда человек нарекает богов, он занят совсем не пустым делом. Просветитель знает еще, что вид и характер пантеона – это культурная условность и о ее формах позволительно дискутировать, но сама по себе потребность в пантеоне есть природная потребность, поэтому она не обсуждается.
Ну вот, я определил, что такое в наше время «просветители». Если всех устраивает это определение, я причислю к ним самого себя.