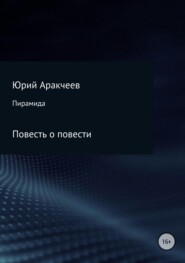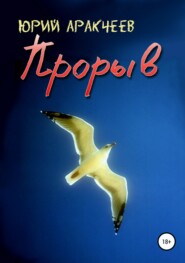По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пирамида жива…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда расходились, состояние у меня было мерзкое, а настроение такое: пятьдесят на пятьдесят. Как теперь говорят, я был «в шоке». Ожидания были совсем другие. А Первый зам ведь тогда – на той редколлегии с Твардовским – был, как будто бы, за мой «Переполох». Впрочем, я помнил, что, уходя тогда с редколлегии, именно он выразил сомнение, что цензура ЦК «Переполох» пропустит.
Редактор Эмма шла рядом со мной.
– Ну, как ты? – спросила участливо.
– Не знаю. Пятьдесят на пятьдесят.
– Ты знаешь, я тоже удивлена. Не понимаю, почему он так жестко… Он просил зайти, подожди меня внизу.
Она пошла в кабинет Первого зама.
Я чувствовал: никто не сомневается, что я соглашусь. Силы больно неравные. Нигде больше повесть не напечатают, это ясно. Они это хорошо понимают.
Появилась Эмма быстро. Первый зам, как она «по секрету» призналась, сказал, во-первых, чтобы она в редактуре была «безжалостна», а во-вторых, что повесть эта – «острая и современная» и что она им «очень нужна».
– Но ты не бойся, – добавила она. – Мы сделаем с тобой так, как надо. Лишнего вычеркивать не будем.
На следующий день я позвонил заведующему отделом и сказал, что согласен.
«…Соотношение сил никогда не изменится. Я в этом убеждена абсолютно. Базис – экономика. Культура, идеология и т.д. – надстройка. То есть главное все-таки желудок. Поэтому естественно: сначала хлеб. Песня – потом. По иному никогда не будет. Каспаров и Ахатов – фигуры вечные; человечество не перевоспитаешь. Человек – социальное животное. Разумное, но – животное. В стае всегда будут вожаки и изолянты; те, кто за, и те, кто против; те, кто назад, и те, кто вперед. Это все естественно, предопределено генетически.
Хотя небольшое несоответствие природе все-таки есть. Звери живут себе, никому не мешая, вместе охотятся, вместе едят. А мы же, если не погибнем во время войны – перетравим друг друга гербицидами да выхлопными газами. Мы, глупые, никак не поймем, что все же охотимся на одного оленя. И чтобы его поймать, нужен и вожак, и изолированный; и первый, и последний. (Простите мне эту мрачную аналогию).
Ваша повесть хороша, но, извините меня, бесполезна, Те, кто думает так же, как вы, и после ее прочтения такими же останутся; на воззрения тех, кто думает и делает иначе, она ни в коей мере не повлияет.
Нет, я не вульгарная материалистка. Абсолютные ценности существуют. Но они потому и абсолютные, что большей части до них дела нет. И никогда не будет, потому что все-таки для них важнее – желудок. И все то, что ведет к насыщению.
Ахатов будет воспитывать своего ребенка, тот своего. И изменить это невозможно. Нет, изменить можно – уголовный кодекс, но не людей. Какие у человека врожденные рефлексы? Хватательный, сосательный… Что еще?
Все это грустно, но правда. Разве нет?
И все-таки, несмотря на мою мизантропическую проповедь о тщете усилий, спасибо вам, и даже не только за повесть, а за то, что предшествовало ее публикации.
С уважением Тернавская Татьяна, студентка.
Получилось как-то непонятно, путано, ассоциативно, но приглаживать не буду. Писала, как думала».
(г. Краснодар. Письмо № 13).
Экзекуция
Повесть о том, как преступно невнимание, неуважение к человеческой личности, поспешность суда над «обвиняемым», подлежала редактированию, то есть суду над ней, теми же методами. Повесть о жестокости обсудили жестоко и потребовали жестокого с ней обращения.
Разумеется, каждый из тех, кто участвовал в обсуждении и требовал доработки, считал, что он хочет «как лучше», не допуская и мысли о том, что его «как лучше» может быть на самом деле «как хуже». И не их требования, а мои попытки сохранить свое в муках выношенное творение выглядели для них самодурством, упрямством, гордыней, стремлением эгоистично сохранить «личную линию».
– Не бойся, – сказала Эмма. – Повесть не станет хуже, я тебя уверяю. Но зато будет опубликована. Это важно.
Если бы можно было пойти в другой журнал, где повесть быстро – действительно БЫСТРО – прочитали бы! Если бы существовал ВЫБОР! Тогда требования этой редакции вовсе не воспринимались бы как насилие: они вправе настаивать на своем – я вправе отказаться. Не хочу соглашаться с их экзекуцией – ухожу в другой журнал. Но в том-то и дело, что выбора нет. Журналов в Советском Союзе в несколько раз меньше, чем было до революции в России, в десятки раз меньше, чем в любой стране Запада. И наши журналы почти одинаковы – все они под властью Госкомпечати и цензуры Главлита. То есть тех людей, которые там сидят… Попытка основать свой журнал – что естественно для любой нормальной страны мира – расценивается в лучшем случае как уголовное преступление, в худшем – как веская причина для помещения в психиатрическую лечебницу, из которой выйти порой труднее, чем из тюрьмы.
Времени оставался месяц, и за эти дни нужно было сократить повесть по крайней мере на четверть. Эмма убедила меня, что кое-что действительно можно убрать – сделать четче, – но зато спасти главное.
Очередное мое творение, опять – в который уж раз в моей жизни! – подлежало экзекуции, «перевоспитанию». Иначе его не пускали в жизнь, к людям. Что же мне было делать? Восстать категорически? Но ведь время идет – неизвестно, что будет с нашей «перестройкой» завтра. А тут – почти гарантия. Да, совсем не случайно, как оказалось, не было «всего шести дней» и главный редактор мне не звонил домой. Все правильно, «субординация» хорошо помогает им… Тот, кому звонили и кого читали «всего шесть дней», был СВОЙ. А я нет. Это четко выявилось на редколлегии.
Что ж, ладно. Посмотрим. В крайнем случае откажусь все равно. Попробовать необходимо.
Начал экзекуцию над рукописью я сам. Своей рукой вычеркнул почти сотню страниц. Дальше продолжала редактор. Как радовалась она, когда удавалось выбросить целые страницы, абзацы «без ущерба»! А то и наоборот – «с улучшением»… Я чувствовал уверенную, умную руку. Конечно, было больно, но я – соглашался. В конце концов, я действительно могу ошибаться, а ей видно со стороны. Бывало, что из-за одного слова мы долго спорили. Чаще всего, уставая, уступал я. Иногда уступала она. Плохо было то, что свои уступки она частенько воспринимала как свое поражение. И все же надо отдать ей должное: она не поднимала руку на «острые» места. Только на «длинноты», «повторы» и «слишком личное». В какой-то степени она все же понимала суть моей повести, ее главную мысль. И она действительно была честный, умный и строгий редактор. Пожалуй, повесть становилась даже динамичнее и острее. Беда вот в чем: черты моей личности, черты подлинности она постепенно теряла. Она становилась слегка другой.
Почему мы так любим перечитывать русскую классику – с жуткими длиннотами иной раз, с болезненностью и уходами в сторону у Достоевского, с корявостью стиля, заумными рассуждениями и повторами у Льва Толстого, тяжеловесной выразительностью Лескова, злой язвительностью Салтыкова-Щедрина, сентиментальной изысканностью Тургенева?… Да потому, может быть, ко всему прочему, что нас пленяет аромат индивидуальности, подлинности, неповторимой личности автора – с достоинствами его и недостатками. Мы имеем дело с ЖИВЫМИ созданиями, которые хотя и переделывались многократно самими авторами, но не подвергались чужой, посторонней редакторской экзекуции, «ювелирной» работе по «ослаблению» или «усилению» каких-то «линий». Образцовый советский редактор, я думаю, с восторгом и пылом «отредактировал» бы и любимого человека, если обладал бы такой возможностью. Впрочем, «строительство нового человека» всегда входило в Программы партии, этим, по сути, идеологи и пытались заниматься все семьдесят с лишним лет. Редактированием людей.
«…Чтобы было мне легче, я прочитала всю литературу о военном времени: война, оккупация, блокада, послевоенное время – все искала, за что можно зацепиться, каковы были тогда резервы помощи, могу ли я теперь на это же рассчитывать, ведь пользуясь чужой помощью, втягиваешь в свое и других. Мне хотелось найти обнадеживающий положительный ответ: да, они должны помочь. Я ответила себе отрицательно – рассчитывать можно только на свои силы. Никто не должен расплачиваться за твое желание роскошествовать – иметь и утверждать ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА…
Если старая репрессивная система основывалась на отсутствии массового возмущения, именно ОБВИНЯЯ жертву в УМЫШЛЕННЫХ действиях против общества, то новая система вообще исключает всякую сознательность в асоциальных действиях. Благодаря этому любые поступки и образ мысли индивида, которые не отвечают данной политической кампании, вполне открыто и официально объявляются следствием нарушений в его… психике.
«Права советских граждан гарантированы конституцией» – высказывание совершенно бессмысленное, если брать его по значению: напечатанный и пусть многомиллионно размноженный текст – неодушевленная вещь, лишенная сознания, – ничего гарантировать не может. Если брать это утверждение по смыслу, то есть исходя из абсолютного выполнения ее статей всеми работниками правовых и неправовых органов, то есть это не что иное, как безумная утопия, не соответствующая уровню мышления ХХ века».
(Продолжение анонимного письма женщины).
…Редактированием людей.
«Но ведь это правильно, черт побери! – думал иногда я. – Должен же быть порядок, должен каждый из нас стать лучше! Закон должен быть, иначе так и будем копошиться в дерьме…» Только он, закон, должен быть один для всех. И для властей тоже. В том-то и дело. И ДЛЯ ВЛАСТЕЙ ТОЖЕ!
«Жить в обществе и быть свободными от общества нельзя» – сказал «вождь всемирного пролетариата», который, кстати, сам никогда не был пролетарием. Но в свободном демократическом, многопартийном обществе – пусть даже «империалистическом», «архибуржуазном» – у «несвободного» члена общества есть, по крайней мере, выбор. В условиях строго пирамидального, тоталитарного общества, несвобода члена становится несвободой «нового типа» (по принципу «партии нового типа»), то есть абсолютной. Ибо выбора у члена «общества нового типа» просто-напросто нет. На первый взгляд, правда. На самом деле альтернатива есть: это тюрьма, психушка или смерть. Но тогда ведь человек перестает быть «полноправным членом общества». А значит, выбора все-таки нет?
Но как же тогда «Дело Клименкина»? Как быть с Каспаровым, не испугавшимся «пирамиды», как быть с теми, кто не шел на предательство, холуйство, подлость, к чему их склоняли упорно? Как быть с самим Клименкиным, который отказался подписывать прошение о помиловании?
Хитрые лошади
(История, увиденная мною во сне и записанная за двадцать лет до написания «Пирамиды»)
Лошадь выросла в деревне, молодость ее прошла в поле. Приятно вспомнить, как была она горячим длинноногим жеребенком, носилась по цветущему лугу, вдыхая сытные ароматы трав, и играла со своими сверстниками.
Но вот она стала красивой породистой молодой кобылой. Все вокруг говорили, что она, к тому же еще, и талантливая. И ее взяли в цирк.
Лошадь была не только талантливая, но и умная, она много чего понимала. Например, она поняла, что хотя в цирке нет цветущих полей и лугов, но там зато нет и холодного зимнего ветра, снега и грязи. И там сытно кормят. И еще в цирке хорошее общество. Было, с кем пообщаться. Правда, кони здесь какие-то странные, но все-таки кони же…
Талантливая лошадь была еще и гордая. Когда она поняла, чего от нее хотят хозяева – чтобы она тупо носилась по кругу, а на ее спине в это время несколько человек, одетых в трико, выделывали бы черт знает что, – она решила, что с ней такого никогда не будет. Скакать под всадником в поле – это еще куда ни шло. Быть запряженной в легкую повозку и бежать по ипподрому, стараясь опередить своих соперников и соперниц – это тоже все-таки жизнь, это не унижает достоинства. Но подставлять свой хребет, скача, как дура, по кругу… Нет, ни за что.
Умная лошадь понимала, что бороться с действительностью в ее положении не так просто. Ведь ясно же, что если она будет слишком уж упираться, если сразу даст всем понять, что с ней этот номер не пройдет, то рассердит хозяина, ее выгонят из цирка, и она лишится всех своих теперешних преимуществ.
И она решила схитрить.
Совсем не позволять вскакивать ногами на свою спину рискованно – ее выгонят, конечно, в два счета. И она решила так: пусть иногда вскакивают, она позволит, но в следующий же момент сбросит этот унизительный груз. Так она протянет время как можно дольше, а если ее в конце концов выгонят – пусть. Зато хоть какое-то время она поживет сытно и интересно. Главное хотя бы перезимовать…
– Но ведь это же просто наивно – думать, что хозяева ничего не поймут и будут терпеть твои выходки, – грустно сказал ей конь Савелий, когда она в порыве откровенности поделилась с ним своими хитрыми планами. – Или тебя выгонят очень быстро, или ты станешь точно такой же, как и мы все. Очень даже просто… – Конь тяжело вздохнул и опустил голову к ведру с овсом. – Мы все ведь когда-то так думали, а теперь вот… – И он принялся лениво жевать вкусные зерна. – Да и то, если разобраться, ничего ведь такого особенного нет в том, что по твоей спине прыгают. Подумаешь! Вечерок попрыгают, а зато потом и ночь твоя, и утро, и день, если, конечно, нет репетиций. И овса вволю…
– Жаль мне тебя, Савелий, – сказала Талантливая лошадь, и в глазах ее горел хитрый огонек. – Все-то ты свои жеребячьи идеалы забыл. Одно слово – кастрированный. По мне так пусть и впроголодь, а – на свободе. Вот, покручусь здесь маленько, перезимую, а потом… За ветром – в поле!
– Ну, давай, давай, – тихо сказал Савелий и обиженно отвернулся.