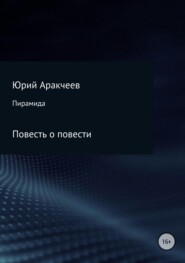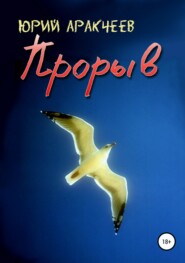По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Яркие пятна солнца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни Земли.
Это одно из самых моих любимых стихотворений Лермонтова – чудесная музыка слов! И я… на том камне… вспомнил, думаю… ту самую песню… Она звучала для нас с Таней здесь, на земле… И не в первый раз…
– Надо же, – сказала она чуть позже, когда мы вернулись в реальность и в солнечной благодати решили отметить наш праздник фруктами и вином. – Надо же, оказывается, нужно было приехать сюда, в Крым, во Фрунзенское, с тобой познакомиться, приплыть в Малореченское, найти эту бухту и камень, чтобы… Никогда такого не было у меня, никогда. Я думала, что я… Фригидная, так это называется, да? Я ведь в первый раз в жизни… Как это? Оргазм, да? Никогда не было. В первый раз, представляешь. Я на самом деле как будто летела, на самом деле…
Конечно же, я опять был горд, чрезвычайно горд, разумеется. Тем более, что… Да, опять удалось сдержаться! Потому что… хватило всего остального, потому что мой восторг длился на всем протяжении!… Да и зачем? Мы ведь не собирались производить потомство. А божественная разрядка была все время… все время… синхронно с ней и с умиротворяющим, могучим движением волн…
А на другой день мы опять направились в горы…
И… Да, да! Именно с ней, с этой Таней, стали получаться у меня уже настоящие – волшебные! – слайды – сначала там, в Крыму, среди природы (хотя и очень мешали, конечно, слишком контрастные полоски незагоревшей кожи на месте купальника). А потом и в Москве, зимой, когда она приезжала ко мне из своей Макеевки. Приезжала не один раз…
Тогда, во Фрунзенском, мы провели с ней целых три дня. Естественно, впоследствии был написан о них этот рассказ. Естественно, я пытался его опубликовать. И естественно же, что его возвращали изо всех советских журналов с четкостью отлаженного механизма.
Должны были произойти события середины-конца восьмидесятых, чтобы его все-таки опубликовали в популярном молодежном журнале большим тиражом. Через ВОСЕМНАДЦАТЬ лет…
А потом, много позже попала ко мне тонкая книжечка, под названием «Дао любви». Где черным по белому сказано о несомненной и огромной пользе именно «акта задержанного». Который воспитывает, во-первых, умение управлять своим телом и нервами – из уважения к женщине в первую очередь! – а во-вторых – экономия ценнейшего вещества, производимого мужским организмом. Несколько полноценных и долгих соитий, считают восточные мудрецы, должно произойти прежде, чем настоящий мужчина позволит себе, наконец, разрядиться! Вот какое открытие совершил, оказывается, я сам! И как же оно помогло мне впоследствии…
Эротика – радость. Эротика – песня! «Ничего на свете лучше нету…» – как верно поется в одной хорошей песне, хотя и о другом. «Ходить по белу свету…» – как сказано в песне дальше – чудесно, тем более, если ты не один, если мы – братья и сестры на прекрасной, роскошной планете. И «звуки небес» долетают до нас, и не скучно нам вовсе, если мы, конечно, учимся слушать.
Сейчас я люблю другую женщину, но я тебя помню, Таня, как и никогда не забуду всех, с кем удалось… Летать! И этот рассказ – наш с тобой, Таня, ребенок. И – как поется еще в одной хорошей песне: «Ничто на земле не проходит бесследно…»
Не «скучные» песни у нас на Земле, Михаил Юрьевич, не скучные вовсе…
Поликсена
Она сидела на листьях растения, похожего на малину, смело распахнув великолепные крылья, на светло-кремовом фоне которых с удивительным изяществом были нанесены тонкие темные линии и голубые и красные пятна. Оптимистический, гениальный в своей простоте рисунок… Неужели она, Поликсена?!
Был вечер, но в тучах появился просвет, и я вышел ненадолго из домика, в котором меня поселили. Выглянуло солнце, наконец, оживив эти горные заросли. Вдыхая аромат испарений, я поднимался по крутой каменистой дороге, потом свернул на узенькую мокрую тропинку, не ожидая в общем-то ничего, смирившийся уже с пресной реальностью, потому что дождь лил двое суток, не переставая, и тут…
Забываем, забываем, как богат земной, уныло упрекаемый нами мир! Как много непредвиденного и чудесного скрывается в нем до поры до времени, чтобы разом вдруг удивить, напомнить…
Да, бабочка существовала передо мной, и это было – напоминание. Затаив дыхание, я приближался к ней и, увидев в видоискателе фотоаппарата ее, ставший наконец резким и четким облик, нажал на спуск затвора. Потом чуть отстранился, передохнул, осторожно перевел пленку… Солнце тотчас скрылось, задернулось тучами, новые армады их все шли и шли с востока. Но было еще сравнительно светло, и я рассчитывал сделать еще несколько снимков, тем более, что бабочка не улетала.
Она вдруг зашевелилась и сложила крылышки домиком. С испода крылья ее были тоже очень красивы, невероятно красивы сейчас, в серой мути, которая опять начала обволакивать сущий мир. Да, она была отблеском солнца, частицей, представительницей солнца здесь, на земле, когда само великодержавное Светило скрывалось. И она имела с ним непосредственную, не подлежащую сомнению связь, это ясно, и если бы не она, то, глядя вокруг, трудно было бы поверить, что солнце вообще существует, настолько все подернулось серой мутью. Но была, была бабочка – существовала!
Лишь три снимка успел сделать я сбоку, запечатлев ее – на пленке и в памяти, – а тучи с несолидной для их могущества торопливостью словно спешили загладить досадную свою оплошность, уничтожить все, все до одного отблески, притушить, закрыть, запретить, чтобы ничто, значит, не напоминало! Но поздно. Я успел. И уже не страшно было зловещее урчание грома. Ах, с какой радостью возвращался я в домик, бережно придерживая фотоаппарат.
Снял ее все-таки, снял! И к тому же – каюсь – взял ее с собой все-таки, хотя вообще-то я их не ловлю. Но тут ведь для того, чтобы определить поточнее – вдруг это все же не Поликсена? Увы, придавил ей грудку и взял, хотя если бы было солнце и удалось нафотографировать побольше, ловить ее я все же не стал бы.
Внимательно разглядывая ее, в который раз поражался я: почему? Почему и зачем столько красоты на крыльях бабочек? К тому времени уже немало лет занимался фотографированием мелких природных существ крупным планом, но все не переставал удивляться. Каким образом вообще создана столь великолепная, столь совершенная природа на нашей планете и для чего брошены мы, люди, в этот гармоничный, цветущий, прекрасно обходящийся без нас мир? Нам дана способность воспринимать его бесконечную красоту, верно, однако многие ли из нас пользуются этой возможностью? Мы мечемся в мелких заботах и страхах, бежим куда-то, не глядя вокруг, строим крошечные, ничтожные личные мирки, не поднимая головы, не различая даже того, что у нас под ногами и рядом. И хорохоримся, хорохоримся, тратя способности на всякую ерунду. И единственное, чему действительно научились – уничтожать. А между тем – вот же она, Красота! Иной раз прямо у нас под ногами…
Вокруг была Грузия. Я прибыл сюда неделю назад в качестве корреспондента одной из центральных советских газет. То есть я был «специальным корреспондентом» – писателем, посланным от газеты, – а заданием моим было, разумеется, не фотографирование бабочек. Заданием моим было знакомство и описание многодетных семей здешнего района со всеми вытекающими из их полезной для государства многодетности проблемами. И мы с ответственным секретарем здешней районной газеты несколько дней уже ездили и знакомились, и это было весьма интересно, хотя не менее интересными были и непредусмотренные, случайные искорки впечатлений.
Ну, вот, например, рыдающие на солнце серовато-фиолетово-красноватые индюки, важно пасущиеся большими семьями на весенней травке. Рыдать они принимались дружно, когда я приближался к ним с фотоаппаратом наизготовку – и они смотрели на меня настороженно и недоверчиво. Их явно мещанский, строго положительный ум не вмещал вероятности моего чисто бескорыстного, чисто духовного приближения, а потому они разом вытягивали шеи с дряблыми красноватыми складками и дружно рыдали – рыдали перед непонятным: ведь я не кормлю их и как будто не пытаюсь сворачивать им шеи – так зачем же, зачем? Ах, как они мне кого-то напоминали!
Или – морской песчаный, диковатый и захламленный пляж у поселка Хулеви, где район имеет выход к морю и куда в летнее жаркое время ездят местные жители, имеющие автомобили… Да, был, был все же один солнечный день, даже полтора, мы побывали в Хулеви как раз тогда, и я даже полежал ровно тридцать минут на солнце, подставив противно белую свою кожу лучам, нежась и отрешенно глядя на медленные плоские волны, лижущие серый песок с мелкими ракушками и полуистлевшими, вынесенными зимними штормами ветвями и бревнами, которые доживали здесь свою земную жизнь – утратив, очевидно, дух, но сохранив еще тело, разлагаясь медленно, не принося этим никому беспокойства, а даже наоборот: давая приют всяким мелким мошкам, букашкам, зашевелившимся сейчас на ярком весеннем солнце. Вот же мудрость и хозяйственная щедрость природы – безотходное производство!
А заросли лавров, мандаринов и чая? Экзотика, сплошная экзотика! А цветущий, благоухающий рододендрон, броско-желтый, с удивительно изысканной формой цветков и аристократическим ароматом – неожиданным, потому что растет он здесь где придется, можно сказать, на любых задворках и даже помойках… И конечно сиреневые гроздья какого-то вьющегося, паразитирующего на больших деревьях, растения, выставленные напоказ с пышным бесстыдством… Это ли все не отблески, частицы живого Светила? Это ли не постоянное напоминание?
Нет, нет, хорошо мне – было! Несмотря на дождь, который, как говорят, всегда льет здесь в весеннее время, но это тоже хорошо, потому что способствует урожаю цитрусовых и кукурузы. Хорошо было мне ездить и ходить со спутником моим…
Да, вот и спутник мой тоже – Нодар Николаевич Шония. Удивительный человек (все люди ведь удивительны, если внимательно смотреть!) – невысокий, коренастый, лет пятидесяти, округлый, мягкий мужчина, седеющий. Но в нем: в лице, в глазах, в движениях его – несомненные признаки нерастраченного еще детства. Особенно в глазах. Так взглядывал он иной раз на меня, в таком ожидании радости и шаловливом озорстве – незапланированном, непредусмотренном! Не отблески ли это и в нем? Хотя и никло это – привычно и неизменно – под бременем неотложных дел… И все же думаю, что путешествие со мной было и для него неожиданным отпуском, от которого он, правда, в конце третьего дня – после наших упорных поездок по многодетным семьям – устал. Наступил «уик-энд», и на пару дней меня поселили в очаровательном домике для гостей.
Итак, жизнь снова засверкала красками для меня в этой весенней поездке в Грузию, радость жизни вернулась! Вновь понимал я, кажется, зачем явились мы в этот многоцветный многообразный мир и каковы истинные его ценности! Вновь – после довольно унылого зимнего периода в столичных каменных джунглях и тоскливых общений с рецензентами и редакторами советских газет и журналов… Радоваться надо, радоваться! Ведь есть чему.
Сама тема командировки тоже, разумеется, интересовала меня, хотя, видимо, не совсем так, как хотел бы редактор. Но я постараюсь, конечно же, постараюсь… Материал, собственно, уже собран, все записано, дома сооружу что-нибудь для газеты, хотя, если честно, мне не совсем понятно, чего от меня хотят. С одной стороны, тема, конечно же, социальная – рост рождаемости и все такое, а с другой – экзотическая: Грузия («Кавказ подо мною, один в вышине…»), красота горной южной природы, интересные по-своему люди…
Ну, вот например. Одна семья, где десять детей, и другая семья, где тоже десять детей. Две семьи, но какие же они разные! Одна – бедность, грязь, убогость, каменновековый какой-то быт, жалкие лица детей: «Зачем, мама, ты произвела нас на свет в таком безнадежном количестве?» Другая же семья совсем иная: красивая мать, худенькая, стройная, легкая еще на подъем, с черточками аристократизма на как будто бы даже и нестаром лице. Да, да, удивительная женственность, удивительная теплота в лице Паши Петровны так и светилась! Интересно, что в полной мере передалась она одной из старших дочек – пышноволосой, стройной и застенчивой черноглазой Луизе, красавице, в которой – вот что важно! – нет никакого ломания, высокомерия, но зато есть, очевидно, достоинство истинное… Она вышла нас проводить после моего корреспондентского разговора с ее матерью и отцом. С нежной и робкой, застенчивой улыбкой на бледном красивом лице вышла она, и в руках у нее была ваза с яблоками.
Был вечер, и яблоки эти горели золотом – и не от вечернего солнца, как будто бы, а от того, что держала вазу в руках именно Луиза… Вот, вот, кстати, тоже несомненные отблески солнца, сияющие и в пасмурный день! И, думаю, что если бы солнце в тот момент скрылось (а оно, вот совпадение, как раз выглянуло!) яблоки все равно горели бы в руках у Луизы, потому что сияние исходило даже не столько от них, сколько от лица Луизы, от стройной фигуры ее, облаченной в сиреневый костюм и черную модную водолазку, которая, несмотря на свои усилия, не в состоянии была скрыть еще два роскошных яблока, светящихся, кажется, сквозь черную ткань…
Отец же ее и других девяти – приземистый, строгий, седой, с густо-черными бровями, уверенный в себе, сильный мужчина. Михаил Бадурович Гогилава. Явно горд своим многоплодием, да ведь и дети все хорошо смотрятся – красивые все, не только Луиза, – отнюдь не несчастные, а главное занятие в семье – труд. Да, труд, разумеется, но еще больше понравился мне присущий всем детям отблеск свободы, этакая теплота и жизнь в глазах. Вот же главная суть! Жизнь души, а не только здорового тела. Чем не тема для очерка?
И вот еще тема: государство практически одинаково помогает (то есть почти и не помогает) и той, и другой семье, но какие же разные эти семьи! Так что дело, выходит, вовсе не только в материальной помощи государства, хотя она безусловно нужна. Пройдет такой материал в газете? Вряд ли…
Была и еще семья интересная – тринадцать… Когда считали для меня – я имена аккуратно в тетрадку записывал, – то сбились, насчитали всего лишь двенадцать. Кто же тринадцатый-то? Вспоминали, вспоминали все скопом, никак не могли вспомнить, я даже спросил: может, у вас все же двенадцать? Нет, сказал отец, Габриэл Гоциридзе, тринадцать, помню ж я. Сказал с уверенностью как будто бы, а на самом деле заметил я тень сомнения на здоровом и молодом сравнительно его лице (ему всего-то пятьдесят шесть)…
Стали опять перечислять аккуратно и, наконец, установили ошибку: не записали одну из тех, кто как раз при разговоре нашем присутствовал – девочку, Джульетту. «Какие проблемы у вас сейчас самые главные?» – спросил я папашу. «Главные позади», – ответил спокойно Габриэл Гоциридзе. Оно и правда, подумал я, младшей-то уже десять исполнилось, а старшие давно все работают. «Вот проблема: машину хотим купить, а очереди никак не дождемся, – спохватился отец. – Потом у нас ведь очередь на «Жигули», а нам «Волгу» нужно, она побольше, на «Жигули», всех не посадишь, нас много…» Ничего себе проблема, подумал я. А Габриэл Гоциридзе, как выяснилось, когда-то парикмахером работал, вот и скопил, да и дети, надо сказать, все работящие – целый коллектив, бригада семейного коммунистического труда… Влияет тут материальное? Влияет. Но в нем ли главная суть?
И все же рекорд по количеству детей побила семья Зарандия. Он – отец всех, Рамин, – познакомился с нею – будущей матерью-героиней, Лолой, – когда ему было сорок три, а ей едва девятнадцать. И… Вот они, имена: Нодари, Мери, Заури, Нели, Мишутка, Гено, Валерьян, Теймураз, Батломе, Карло, Тариэль, Кетеван, Гоги, Изольда, Мате, Автандил и Тинатин… Музыка! А получается сколько? Семнадцать! Значит, не ошибся я, всех перечислил. Одиннадцать мальчиков и шесть девочек! Сам отец умер недавно, не дожив всего лишь года до своего восьмидесятилетнего юбилея. Матери пятьдесят семь, бодра еще, несмотря на то, что шестнадцать раз была беременна и рожала – только одна двойня была у них, последние – Автандил и Тинатин. Отцу, Рамину, было тогда уже шестьдесят восемь лет…
Эта семья беднее, чем семья Гоциридзе, но в общем-то не так уж и страдают, все работают – на предприятиях, в совхозе или по дому, – а государство в сущности помогает так же, как оно помогает другим…
Каков же вывод? Необходимость труда, трудового воспитания в многодетной семье? Но ведь это само собой, это естественно, что в многодетной семье основа воспитания – труд, это как и везде. Но вот ведь и еще одна семья, к примеру, и, по-моему, не менее любопытная. Всего двое детей: сын и дочь. Дочь умерла недавно, а сын погиб на войне. Умер и отец, а мать живет теперь памятью своего погибшего сына – до сих пор, вот уже 39 лет, она ходит в черном. Дом превратился в музей, где по стенам развешаны фотографии сына, на столе разложены письма, приходившие с фронта, его личные вещи. Мать – хранительница музея и печальной памяти о войне, ее знают во всей Грузии, и в День Победы, 9-го мая, каждый год сюда съезжаются тысячи людей – почтить память погибших. На железных воротах железные буквы: «Амиран Латария. 1922-1943». Разве менее достойна эта семья?
Так о чем же все-таки писать мне в статье? Что выбрать?
…Каменистая тропинка спускалась к чистейшему говорливому родничку, выложенному белыми выщербленными известняками, а в густых кущах разнообразных кустарников и деревьев перекликались изредка, напоминая о своем существовании, соловьи. Изредка, изредка – потому что и для них ведь сейчас не было солнца! Но бабочка была у меня, была! И хорошие мысли о командировке, что ни говорите, были тоже…
Домик, в котором я жил со вчерашнего дня, был тоже, кстати, великолепен. Деревянный, ажурный, голубенький, словно порхающий над обширным прудом меж вековых развесистых ив, увитый виноградом и осеняемый зарослями пятиметрового бамбука и пальм – домик, построенный, как мне сказали, для визитов самого-самого большого начальства. Ожидали года два назад самого Леонида Ильича, говорят, потому и построили срочно, но великий престарелый Генсек так и не собрался. А домик остался зато.
В самом домике, несмотря на изящную обстановку, тоже было сейчас по-осеннему мрачно и холодно. Однако теперь я не чувствовал мрака и холода, потому что было, было запечатлено уже яркое, несомненное нечто: солнечная яркая бабочка! Пасмурным днем, как это поется в песне, видел я синеву…
Темнело, хотя дождь так и не полил, я пошел отмывать ботинки к роднику. Скоро должна была прийти Луна. Да, я не оговорился, Луна в данном случае не небесное тело – оно-то как раз и не могло бы прийти из-за туч, – а вот Луна-женщина, Луна-грузинка с таким поэтичным именем и вполне человеческой, грузинской фамилией Кухалишвили должна была прийти непременно. Как она уже приходила вчера вечером и сегодня утром, приставленная директором цитрусового совхоза ко мне, чтобы приносить завтрак и ужин. И ударение в слове, означающем имя ее, было, в отличие от небесного тела, на первом слоге: Лyна.
Итак, я ждал, когда придет Луна, а пока был один во всем домике и ближайших окрестностях, если не считать расхаживающего невдалеке сторожа, пожилого мужчину, тоже грузина, по имени Ваньчжа (так, по крайней, мере, звучало имя его в устах Луны) – добродушного, молчаливого, который обеспокоился, когда я ушел в горы и довольно долго, с его точки зрения, не приходил – он думал, что я заблудился. Даже крикнул он несколько раз – в молчаливые, подернутые серой мутью горные заросли. Я слышал крик, но не думал, что предназначен он для меня. Ему на радостях я тоже сказал, что сфотографировал прекрасную бабочку.
Отмыв ботинки в хрустальной воде ручейка – мутная, она все равно весело понеслась вниз по гладким камешкам в озеро, осветляясь на пути, – я вошел в домик, развернул пакетик с бабочкой. Еще полюбовался ею, даже Ваньчже показал, он подтвердил, что много здесь таких летает, отчего я окончательно успокоился. Убрал бабочку, вошел в свою комнату и включил телевизор.
Шел хоккей – передача с первенства мира, – я посмотрел немного, на звук пришел и Ваньчжа, сел скромно в дверях. Однако игра была неинтересной, Ваньчжа, посидев молча, ушел. Я выключил телевизор, принялся листать свои записи. И, наконец, в гостиной за дверью послышался голос Луны. Признаюсь, услышав его, я обрадовался не слишком-то духовно – так, видимо, радовались собаки Павлова при знакомом звуке звонка. Но в следующий миг эмоции мои стали более возвышенными: был еще один голос, кроме голоса Луны, и тоже женский, кажется, совсем молодой.
Я вышел в гостиную.