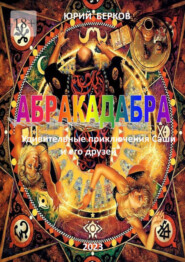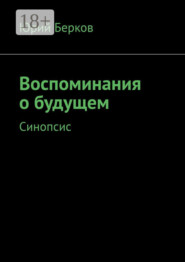По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания. Автобиографическая повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отец устроился работать мотористом на катер, который плавал по Неве и Ладоге. Дядя Андрей вместе с женой работал в какой-то столовой на кухне, осваивал профессию повара. Тётя Паня строила дом культуры в г. Ломоносове (бывшем Ораниенбауме). Работала штукатуром. Однажды она упала с лесов и сломала позвоночник. Но всё обошлось. Остался лишь небольшой горб на спине. Замуж она так и не вышла.
Глава 2. Война
1
С началом войны моего отца и дядю Андрея мобилизовали. Они попали в Кронштадский флотский экипаж, где проходили начальную военную подготовку. Их готовили к службе на кораблях, однако жизнь у них сложилась иначе. Отец отличился на стрельбище, и его послали на курсы снайперов. А дядя Андрей сумел отличиться в поварском деле, и его оставили при флотском экипаже поваром. Там он и прослужил всю войну, не сделав ни одного выстрела. Он вообще был не прост (в отличие от моего отца) и всё делал обдуманно, с дальним прицелом и выгодой.
Окончив снайперские курсы, отец попал на передовую. Линия фронта в то время уже приближалась к Ленинграду. Мать работала на швейной фабрике. Шила солдатские шинели. Я был в детском саду, а сестра Лена – в яслях. Осенью, в сентябре, кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось и начались голод, бомбёжки, артобстрелы. В начале письма от отца приходили регулярно, менялся только номер полевой почты. Потом стали поступать с перебоями, но зато целыми пачками. Это были обычные небольшие треугольные конверты, написанные химическим карандашом, с обязательной отметкой военной цензуры. Где находился отец, мать не знала, это было военной тайной.
Сестра Лена в яслях (крайняя справа),1941 г.
А положение в Ленинграде становилось всё тяжелее, хлебный паёк всё меньше. В январе 1942 г. умерла сестра Лена. А дело было так.
В яслях закончились продукты и детей накормили чем-то несъедобным. Умерло несколько человек в группе. Врачи неделю боролись за жизнь моей сестры, но спасти не смогли. Мать всю эту неделю находилась в больнице, а меня оставила на попечение моей крёстной, бабки Миланьи, отдав ей мою продовольственную карточку. Бабка Миланья работала домработницей в семье инженера, проживавшего в нашей коммунальной квартире. Родом она была из деревни, паспорта не имела, работать в колхозе не хотела, вот и сбежала в город.
Семья инженера занимала две смежные комнаты соединённые небольшой прихожей. Этакая небольшая отдельная квартирка в большой коммунальной квартире. В маленькой прихожей стоял огромный сундук с барахлом. На этом сундуке и спала бабка Миланья. Трудом домохозяйки она себя не очень обременяла (работала за харчи), а всё свободное время проводила у Никольской церкви, выпрашивая милостыню. Она была набожной и богомольной женщиной, но физически совершенно здоровой.
Когда мать вернулась из больницы, похоронив дочь на Смоленском кладбище, она не узнала меня. Я очень исхудал, перестал ходить, лежал в кровати и монотонно повторял «дай… дай… дай…», прося хлеба.
Наталья Фёдоровна Беркова, 1941г.
Мать кинулась к тётке Миланье: – Что с Юрой, почему он так исхудал? Ты его не кормила?!. Миланья упала к ней в ноги и стала просить прощения. Потом сказала, что во сне ей явилась богородица и сказала: «Спасай себя, ты угодна богу, а детей бабы ещё нарожают».
После смерти сестры Лены от неё осталась неотоваренная продовольственная карточка и это спасло меня. До конца месяца Мать получала продукты на карточку Лены и на мою карточку и сумела меня выходить. Получается, что сестра Лена, своей смертью подарила мне жизнь.
У дяди Андрея блокадной зимой 1942 г. умерла жена Людмила. Сам он в это время безвыездно находился в Кронштадте. В Ленинград было не добраться. Детей у них не было.
2
Тётя Паня, находясь в г. Ломоносове, тоже сильно голодала. После травмы позвоночника, она не могла работать физически и служила в охране складов на Транзитке (так назывался предпортовый район в г. Ломоносове). Она имела служебную продовольственную карточку, по которой норма выдачи была в два раза меньше, чем по рабочей. Её мама (бабушка Даша) имела карточку иждивенки, по которой норма выдачи была совсем ничтожной. Бабушка Даша умерла с голоду зимой 1942 г. и была похоронена на кладбище в Красной слободе. После похорон матери тётя Паня слегла и неделю лежала дома, ослабевшая от гололда. Потом соседи отправили её в госпиталь. Находился он в каменном двухэтажном здании на улице Дегтярева (после войны в нём была школа, в 1995 г. её перестроили и ныне это 429 школа). В палате находилось около 20-ти человек. Все истощённые, лежачие. Температура в палате была минусовой. Кормить больных было нечем, и они постепенно умирали. Через две недели в палату пришли санитары и стали выносить окоченевшие трупы. Когда они подошли к тёте Пане, она оказалась живой, но без сознания. Одна из санитарок пожалела её и отнесла к себе домой. Там она стала ухаживать за ней, кормить, и постепенно выходила.
Когда тётя Паня встала на ноги, оказалось, что дом её в Мартышкино сгорел от зажигательной бомбы и ей дали комнату в г. Ломоносове, в двухэтажном деревянном доме на улице Свердлова (ныне Михайловская) рядом с часовней. Вскоре она стала работать – плести корзины для фронта. В те времена в качестве тары широко использовались мешки и корзины. Корзины плели из вымоченных ивовых прутьев. Это была тяжёлая работа. Целый день надо было гнуть ивовые прутья и резать их. Пальцы рук очень болели и опухали. Но за это давали рабочий паёк. К тому же, норму выдачи хлеба постепенно увеличивали. Голод отступал.
3
В мае 1942 г. мою мать и её сестру Антонину (тётю Тоню) с детьми эвакуировали в Кировскую область, Уржумский район, Селенурский сельсовет, деревню Канганур. Другие сёстры эвакуировались немного раньше в разные регионы страны (на Урал и в Среднюю Азию). Именно с эвакуацией у меня связаны мои первые детские воспоминания. Видимо, перемена обстановки обострила мои чувства и восприятие окружающего.
Я помню баржу, на которой мы плыли через Ладогу. Её тащил небольшой буксир. Все пассажиры сидели на верхней палубе, на тюках, узлах и мешках с пожитками. Был прекрасный майский день. В воздухе кружили наши истребители. Немецких самолётов не было и нас не бомбили, так что всё закончилось благополучно.
Потом нас долго везли в товарных вагонах – теплушках. На полу была разбросана солома и пожитки эвакуируемых. Мы сидели и спали на этих пожитках. Ехали несколько суток. Поезд часто останавливался на перегонах, пропуская встречные составы, которые шли к линии фронта. Эти отрывочные воспоминания до сих пор хранятся в моей памяти, а ведь мне тогда было всего 2 года.
В деревне Канганур нас подселили в избу к Поли Тимихи. Помню, посредине избы стояла огромная русская печка с палатями по правую сторону, на которых было полно тараканов. Я помню, как зимой их вымораживали. В лютый мороз открыли все окна и двери, и ушли к соседям. Через несколько часов вошли в избу, а там синички склёвывают уже замёрзших тараканов.
Освещения в деревне не было и мы пользовались самодельной керосиновой лампой – коптилкой, наподобие лампадки, которую зажигают перед иконой.
Мебель в избе была вся деревянная, некрашеная. Из мебели был большой досчатый стол и четыре скамейки вокруг него. Вдоль стен тоже стояли скамейки. Вот и вся мебель. На серых стенах избы висели фотографии и картинки из довоенных журналов. В правом углу – икона с изображением богоматери с младенцем Иисусом на руках. По вечерам мать молилась, стоя перед иконой на коленях. Просила бога за меня, и за отца, чтобы все были живы и здоровы.
Во дворе, обнесённом сплошным досчатым забором, стоял сарай для дров с сеновалом наверху, а рядом с ним хлев. На ночь в нём запирали козу Зинку, которая лечила меня – дистрофика своим козьим молоком. Зинка была доброй козой и позволяла мне её гладить. Обычно после дождя по двору протекал небольшой ручеёк, и я строил запруды из песка и пускал бумажные кораблики. Никаких других игрушек у меня не было.
Пред домом проходила единственная в деревне улица, она же просёлочная дорога, соединявшая деревню с городом Уржумом. По этой дороге часто проходили толпы кочующих марийцев. На них были какие-то балахоны, увешанные снизу монетами. Многие с палками, с котомками за спиной. Среди марийцев было много больных трахомой. Некоторые совсем ослепли и шли, положив ладонь руки на плечё поводыря.
Небольшая речка протекала метрах в пятидесяти от единственной деревенской улицы. Сразу за дрогой на пологом берегу реки огороды. За деревней колхозные поля и лес.
Все эвакуированные («кавыренные» – как их называли местные жители) работали в колхозе. Мать летом часто брала меня в поле. Однажды (мне было уже четыре года) я убежал в лес, и вся деревня искала меня. В лесу было много волков, и они часто нападали на колхозный скот.
Мать рассказывала как эвакуированные женщины осенью 1942 г. впервые пошли в лес за грибами. Набрали полные корзины белых и идут по деревне. А местные жители кричат: «Глядите-ка, кавыренные одних поганок набрали!» Оказывается, они не знали белых грибов и считали их поганками. После того, как никто из «кавыренных» не отравился и не умер, наевшись белых грибов, местные жители тоже стали их собирать.
Между тем, в 1943 году перестали поступать письма от отца. Мать сделала запрос командиру части и получила ответ, что рядовой Берков Алексей Емельянович, выполняя боевое задание, пропал без вести. Мать ещё надеялась, что мой отец жив и найдётся. Может быть, он ранен и попал в госпиталь, но шло время, а от отца не было никаких известий. Она обращалась в разные инстанции с просьбой разыскать мужа, но ответ был один: «Рядовой Берков А. Е. пропал без вести в мае 1943 г.». Только в после войны, в 1947 г., когда стали доступны немецкие архивы, моей матери прислали извещение: «Ваш муж, Берков Алексей Емельянович, умер в германском плену в мае 1944 г.». После этого мать стала получать пособие по случаю потери кормильца (20 руб.)
Дядя Андрей вторично женился в 1944 г. на Полине, а в 1945 г. у них родился сын Юрий. Но жизнь с Полиной у дяди Андрея не сложилась. Полина любила гульнуть, а дядя Андрей сильно ревновал её. Из-за этого они часто ссорились. В 1961 году Полина умерла от рака и дядя Андрей вторично овдовел. Через три года он нашёл себе женщину, Валю, но регистрироваться они не стали. Ей не нравился сын Андрея Юрий. Он не признавал её в качестве мачехи. Учился он неважно, был груб с отцом, попал в дурную кампанию и стал выпивать. Но это был уже другой, послевоенный Ленинград-ский период.
Глава 3. Ленинградский период
1
Летом 1945 года мы с матерью и тётей Тоней возвратились из эвакуации в Ленинград. В начале жили у тёти Тони (Антонины Фёдоровны Николаевой) на улице Войнова, поскольку наша комната на Васильевском острове
Я на даче в Сиверской, 1946 г.
была занята. В ней проживал какой-то военный. Первое, что меня очень удивило, это электрический свет. Мать подносила меня на руках к выключателю, и я поворачивал его, наблюдая, как зажигается и гаснет лампочка.
Комната у тёти Тони была большая, светлая. Кроме тёти Тони в ней жили дети, дочь Валя и сын Коля. Отец их, Константин Николаев, был репрессирован в 1937 году. Он работал главным инженером на каком-то заводе и где-то что-то не так сказал в компании сослуживцев. Больше его никто никогда не видел.
Ученик второго класса Ю. Берков. 1948 год
У тёти Тони мы прожили около месяца. Затем нашу комнату освободили, и мы переехали на Васильевский остров в свою полутёмную десятиметровую комнату с окном в стену. Когда мать открыла дверь, то увидела, что комната совершенно пуста. Никакой мебели в ней не было. Мать стала расспрашивать соседей, куда подевалась мебель из её комнаты. Ей сказали, что всё сожгли зимой 1943 г. в буржуйках. Однако соседи и помогли нам. Откуда-то принесли металлическую кровать-полуторку с панцирной сеткой, стол и пару стульев. Постепенно мы стали обустраиваться. В 1946 г. у нас даже появилась трофейная немецкая швейная машинка «Зингер». На ней мать сама шила мне одежду из старых военных кителей, штанов, гимнастёрок и тужурок. А ещё по вечерам, после работы, до поздней ночи она шила лифчики, а в воскресенье ехала на барахолку и продавала их. Это немного укрепляло наш тощий семейный бюджет. Ведь за отца до 1947 года мать ничего не получала.
Я же с 1945 по 1947 гг. посещал детский садик. Каждое лето нас вывозили за город, в Сиверскую. Несмотря на относительно сытое житьё, я оставался очень хилым ребёнком и часто болел. Ленинградский климат мне не понравился. За худобу и плохой аппетит нянечки в садике называли меня цыплёнком или птенчиком.
Помню, как в 1945 – 46 годах по улицам разбитого Ленинграда водили пленных немцев. Это были огромные серые колонны одинаково одетых людей. Шли они под конвоем и занимались разборкой развалин. Шли угрюмо, молча, а Ленинградские мальчишки бежали рядом и кричали дразнилки:
«Немец – перец – колбаса, тухлая капуста
съел мышонка без хвоста и сказал, что вкусно!»
В 1945—46 годах на улицах города было много калек, кто без руки, кто без ноги, а кто и без обеих. Передвигались на костылях, на каталках. Одеты жители города были плохо. Мужчины в основном в старую военную форму, но уже без погон. Женщины в довоенные платья из ситца, вязаные кофты, жакеты.
В 1947 году пришло извещение о смерти отца в германском плену. Мать долго плакала, потом сняла со стены икону и сказала: «Бога нет… Всемогущий и всемилостивейший, он допустил столько горя и несправедливости, что я больше не верю в него. За что он так жестоко наказывает ни в чём не повинных людей!?». С этого дня мать больше не посещала церковь и не молилась.
2
Осенью 1947 года я пошёл в 30-ю мужскую среднюю школу Василеостровского района, в первый класс. Учился на отлично. Учительница ставила меня в пример и каждую четверть вплоть до четвёртого класса выдавала похвальные грамоты.
Как и все мои сверстники, я рос атеистом. В школе нам объясняли, что бога выдумали служители церкви, чтобы эксплуатировать религиозные чувства простых людей и отбирать у них последнюю копейку.
Весной в четвёртом классе я серьёзно заболел (кажется корью) и проболел два месяца. Встал вопрос, допустить меня к экзаменам или оставить на второй год. (Тогда экзамены сдавали с четвёртого класса по десятый ежегодно). К экзаменам меня допустили, учитывая мою хорошую успеваемость, но сдал я их не очень хорошо. Сказался длительный перерыв в занятиях. Кроме того, я уже заразился радиолюбительством и всё свободное время посвящал изготовлению детекторных радиоприёмников. А произошло это так.
Как-то, зимой 1950 г., будучи в гостях у тёти Тони, я зашёл к Лёньке – её соседу по коммунальной квартире. Это был парень лет 15 – 16. Его мать, тётя Клава, была какой-то родственницей моей тёти Тони по материнской линии (двоюродной или троюродной сестрой). Я и раньше заходил к нему, пока моя мать и тётя Тоня беседовали. А в этот раз я застал Лёньку за изготовлением электропроигрывателя грампластинок. Оказалось, что он радиолюбитель со стажем. Раньше он собирал детекторные радиоприёмники, а теперь собирает двухламповый электропроигрыватель.