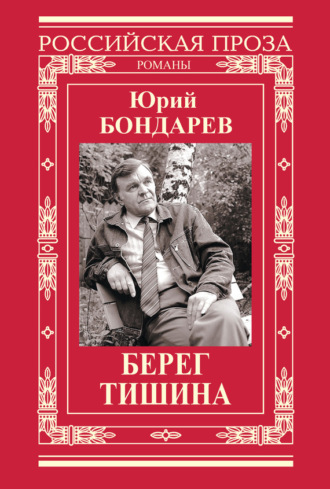
Берег 21
– Славяне, гляньте-ка! – крикнул кто-то, захохотав. – А Таткин три тарелки каши упер и полбуханки шорстнул, во-о аппетит!
Маленький, тщедушный Таткин обладал на удивление неповторимым аппетитом, мог есть сколько угодно и когда угодно, порой грыз припасенные сухарики даже ночью на посту, похрустывая в темноте голодной мышью, и сейчас, застигнутый вниманием, не перестал жевать, острое его лисье личико было углубленным, серьезным.
– Соображаю я, товарищ сержант. – Он повел рыжими бровками на Меженина. – Об деньгах этих. Может, после завтрака и на разведку какого магазина идти?
– А ты, сообразительная голова, немецкий язык знаешь? Как говорить будешь – руками или глазами? – спросил Зыкин.
– Такое и без слов завсегда понятно. Деньги, они что… сами говорят.
– Таткин, люблю я тебя за расчетливость ума, а ты лучше скажи откровенно – куролесил небось? – не унимался Меженин. – Гастролер ты, видать, и красивый мужчина был! И ростом вышел, и косая сажень в плечах, и на гармони вальсы наяривал! По всему вижу – ходок ты был неисправимый!
– В ум не приходило, – скромно опустил выгоревшие бровки некрасивый Таткин, и в этой его ангельской кротости было и нежелание и согласие участвовать в собственном розыгрыше, который время от времени падал на него и повторялся во взводе для общего увеселения.
– Врешь, Таткин, большого туману напускаешь! Рассказывай – послушаем, а потом я про Житомир кое-что веселое расскажу, хоть лейтенант чуть под суд меня не отдал! Да, прошлое дело, анекдот получился. Рассказать, товарищ лейтенант, для смеху? Зуб на меня не будете иметь?
То, что Меженин не очень кстати вспомнил о Житомире, о том давнем и неприятном, что случилось там и что Никитин не хотел вспоминать, – было словно бы направлено против него, против его стыдливой неопытности, распознанной тогда Межениным.
– А при чем Житомир, сержант? Все было глупо! – сказал он резко и, сказав, почувствовал, как запылало лицо под взглядом Меженина, густые женские ресницы его подрагивали в безвинном любопытстве.
– Не так, что ли, сказал, лейтенант? Я плохого не помню, а речь о бабах шла, – проговорил он. – А бабы на войне – тоже подарок или трофеи, так я считаю, ежели не вру…
– А я как раз о трофеях, – перебил Никитин, сердясь на звук своего голоса, на то, что придал какое-то значение словам Меженина о Житомире. – Именно насчет трофейных денег, – проговорил он совсем не то, что надо было сказать. – Зыкин прав: зачем они? Пришли в Германию, чтобы превратиться в торговцев? Часы – это другое. Раздайте их всем, Меженин, у кого нет. Хоть на посту будут точное время знать. А деньги… Никаких магазинов и никакой торговли. Ну-ка, Таткин, пересчитайте рейхсмарки. («Зачем я сказал, чтобы пересчитали рейхсмарки?») И лучше так: или сожгите их, Меженин, или сдайте в штаб полка, чтобы никаких глупых соблазнов не было. Не хочу, чтобы взвод оказался в дурацком положении купцов!
Он знал, что этим приказом мог разжечь в Меженине злость, задеть его самолюбие и одновременно мог возбудить недовольство солдат к тому, что он, командир взвода, решил сделать, как бы отнимая у них легкомысленную надежду на сладкую жизнь. Но невольно он отдал распоряжение, и все затихли, осторожно поглядывая на него, на Меженина, и тот, стиснув челюсти, всверлился в лицо Никитина жестко-светлыми глазами, выговорил, снисходительно ухмыляясь:
– Ясныть, лейтенант. Сделаю. Как приказано. Наше дело телячье.
И тотчас, загремев стулом, поднялся, весь расправился, красивый зрелой телесной ладностью, подошел к тому месту, где лежал мешок под столом, вытянул его, рванул «молнию», демонстративно-небрежно высыпал на стол перед Таткиным кучу плоских коробочек, разъехавшиеся пачки новеньких купюр и скомандовал:
– Кто не обжился часами, разбирай без паники! Таткин, считай гроши! Лейтенанту – право выбрать любые первые!
– Не надо. У меня еще ходят, – ответил Никитин и тут же подумал, что суеверно не заменял свои ручные часы, старенькие, с почерневшим циферблатом от гари и окопной пыли, найденные им в офицерском блиндаже после почти бескровного боя под Гомелем.
В тот момент, когда солдаты, взбодренные командой Меженина, затолкались вблизи стола, охотливо разбирая наугад эти игрушечные на вид коробочки, в столовую вошел лейтенант Княжко, командир первого взвода, крикнул с порога:
– Здравия желаю, второй взвод! Привет, Никитин! Позавтракали? А почему кошку не кормите?
Он был очень молод, этот лейтенант Княжко, и так женственно тонок в талии и так подогнан, подтянут, сжат аккуратной гимнастеркой, крест-накрест перетянутой портупеей, и так нежно, по-девичьи зеленоглаз, что каждый раз при появлении его во взводе рождалось ощущение чего-то хрупкого, сверкающего, как узкий лучик на зеленой воде. И хотя это ощущение было обманчивым – нередко мальчишеское лицо Княжко становилось неприступным, гневно-упрямым, – Никитина будто омывало в его присутствии веяние летнего свежего сквознячка, исходящего от голоса, взгляда, от всей его подобранной фигурки. Княжко был из московской профессорской семьи, учился на филологическом факультете, жил на Озерковской набережной, хорошо знал переулки Пятницкой, где жил Никитин; они никогда не встречали друг друга на замоскворецких тротуарах и сблизились только на фронте в конце сорок третьего года. Лейтенант Княжко прибыл, еще хромая, из тылового госпиталя, был назначен в батарею на место убитого командира первого взвода. До этого он служил в пехоте, командовал на Днепре ротой, но в связи с ранением и хромотой был не взят в стрелковую часть, а направлен по личному желанию в дивизионную артиллерию.
– Если нас посетил первый взвод, то, конечно, братский привет! – ответил Никитин, обрадованный приходу Княжко, испытывая странное подспудное чувство какого-то далекого июльского утра в замоскворецких тупичках, с солнцем над заборами и тополиным пухом на мостовой. – Здравствуй, Андрей! А что такое – откуда у тебя кошка?
– Откуда, спрашиваешь? Это уж, второй взвод, недопустимое безобразие, на глазах у вас животное с голоду может умереть, а вы что?
Лейтенант Княжко выглядел по обыкновению педантично опрятным, ни единой складки на гимнастерке, светлые волосы причесаны на косой пробор, гладко-влажны, грудь чуть выпукла, ослепляет полосой орденов, сапожки до безупречной чистоты зеркальны. Необычным было то, что на сгибе руки он, словно фуражку на торжественном построении, держал лохматую дымчатую кошку и гладил ее зажмуренную, грязную морду, тыкавшуюся ему в плечо.
– Сидит, понимаешь, бедная, возле дома сирота сиротой и какую-то траву ест, – заявил Княжко. – Куда смотришь, Никитин? Ушатиков, дайте ей немедленно каши, накормите по-солдатски, а то к себе во взвод возьму!
Он спустил с рук кошку, а она сейчас же легла на спину, показывала свалянную шерстку худого живота, потом разнеженно потерлась спиной о затоптанный сапогами ковер, ленивым движением лап будто приглашая продолжить начатую Княжко игру.
– Боже ж мой, смотри ты, настоящая кошка! – ахнул, засмеялся Ушатиков, только что не без удовольствия наладив на запястье новые часики и мгновенно забыв про них. – Неужто немецкая? Кысанька, кысанька… Гляди, гляди, лапами что выделывает! По-русски она понимает? Как к ней обращаться-то?
– Только на чисто французском, – не улыбнувшись, Княжко щелчками сбил шерстинки на рукаве. – Немецкие кошки, как правило, воспитываются в лучших французских аристократических домах, но при этом не брезгают русской кашей. Вы поняли?
– Да я сурьезно, товарищ лейтенант… Ух, какая животная важная!
Ушатиков, вытаращив ласковые голубиные свои глаза, пощекотал кошке живот, кошка, продолжая играть, тронула, мягко ударила его папой, и он заморгал, сидя на корточках, позвал разомлевшим, умиленным голосом:
– Кысанька, шпрехен, шпрехен, ком, ком, каши тебе дам… хенде хох, гут, гут, гутен морген… Ух, какая зверь солидная!
– Вы ей голову заморочили, – не удерживая смех, сказал Никитин. – Наверное, немецкие кошки понимают один международный язык: кыс, кыс, кыс. Попробуйте. Если не поймет, немецкий разговорник возьмите.
– А верно, товарищ лейтенант, должна соображать, – кыс, кыс, кыс! – умилялся Ушатиков и, пятясь на корточках, поманил кошку. – Сюда, сюда, я тебе и посудину найду. Сюда, сюда, в угол иди, а то невзначай раздавят тебя сапожищами-то…
– Есть что-нибудь новое, Андрей? – спросил Никитин. – Из штаба никаких слухов? Молчат до сих пор?
Лейтенант Княжко счистил прилипшие к гимнастерке шерстинки, вкось поглядел на стол, сплошь заваленный купюрами рейхсмарок, на сосредоточенного Таткина, перекладывающего пачки ровными рядками, на возбужденные лица солдат, которые, окружив Меженина, еще разбирали коробочки с часами, сказал:
– Все по-прежнему. Ни одного приказа. Интересно, где и какой банк вы конфисковали, Никитин? – Он вкладывал в вопрос иронию, но зеленые глаза его оставались серьезными. – В Берлине? Или Кенигсдорфе?
– Просто хорошо живем, товарищ лейтенант! – откликнулся громко Меженин из гущи солдатской толкотни. – Только никто не завидует, хоть все удобства во дворе, телефон в аптеке! Прошу принять подарочек, гарантия известная – годик простучат!
– И много у вас подобных ценностей?
– Всем хватит, товарищ лейтенант, вагон и маленькая тележка! Возьмите вот эти плоские, на руке глядеться будут. И стрелка секундная есть.
– Ничего немецкого не беру, – суховато ответил Княжко. – Насколько мне известно, Меженин, это предпочитают делать похоронные команды.
– Новенькие, товарищ лейтенант, как из магазина. Не с руки сняты!
– Не имеет значения.
– Ясны-ыть, – протянул Меженин неопределенно. – Дело полюбовное, кому попа, а кому попадью. Наш лейтенант тоже с принципами. Засек!
Сощуриваясь, он завел, послушал часики и, разочарованный, бросил их на стол, они звякнули меж груды коробочек.
– Ну и прекрасно, – Княжко повернулся к Никитину. – Ты позавтракал, вижу? Пройдемся к орудиям. День сегодня отличный. Совсем летний.
– Просто великолепный день, – согласился Никитин и, надевая выстиранную вчера пилотку, предупредил Меженина: – Если из штаба будут звонить, сообщить немедленно.
– Не аристократично, но неплохо придумано, – сказал перед дверью Княжко, кивнув в угол столовой, где усердный Ушатиков на корточках кормил кошку из крышки немецкого котелка, старательно соскребывая с солдатских тарелок остатки пшенной каши.
Был час полного утра, тихие улочки провинциального немецкого городка были по одной стороне горячи, знойны, затоплены солнцем, по другой стороне лежала тень, еще прохладная, еще по-весеннему чуть сыроватая, и здесь, в прохладном воздухе, был особенно густо разлит сладковатый аромат ранней сирени, белой, пышной, отяжеленно свисавшей над железными оградами. И этот текущий по тротуарам дурманный дачный запах уже смешивался с неожиданными для покойных улочек дымками солдатских кухонь, бензиново-пыльным запахом машин, стоявших цепочкой вдоль обочин подсохших мостовых.
Мирный городок этот давно проснулся, ярко краснел черепицей, золотились стволы сосен, раздавались начальственные голоса старшин во дворах, занятых полковыми хозяйствами, гремели поварские черпаки о нутро отмываемых после завтрака котлов, кое-где в глубине окраинных садов отдаленно завывали моторы тыловых машин. На площади возле кирхи и вокруг на улочках появлялись группами солдаты, совсем по теплу, без шинелей, без ватников, ходили посредине мостовых, с интересом разглядывая чужие вывески пансионов под голландскими фонариками, женские шиньоны в зеркальных витринах парикмахерских, опущенные жалюзи закрытых пивных баров, уютно отдыхая, покуривали, сидели на каменных плитах, гладких ступенях кирхи, грелись на солнцепеке, переговариваясь, задирали то и дело головы к острой готической высоте ее кровли, купающейся в теплой голубизне неба.
– Веселый городок, – сказал Княжко, чаще, чем Никитин, козыряя встречным солдатам. – Уютно жили. И вообще – прекрасное время, май!
Никитин спросил:
– Но где бюргеры, скажи ты мне? В подвалах сидят? Попрятались все? Или сбежали, как мои хозяева?
Это был, по всей видимости, типичный курортный городок, чистенький, удобный, вымытый, с множеством маленьких магазинчиков, ресторанчиков, баров и пансионов, куда на лето выезжали, наверное, отдыхать берлинцы, однако сейчас немецкая речь нигде не слышалась тут, и хотя солдаты, заняв дома, жили в квартирах вместе с хозяевами, повсюду на окнах были еще задернуты шторы, и лишь порой края их осторожно шевелились, когда близкий мотор машины или дребезжание кухни, взрыв хохота или звуки солдатского говора возникали, раздавались на улице.
– Думаю, немцы уже перестали надеяться, что мифическая армия Венка спасет Берлин. И все же чего-то ждут в страхе, – ответил Княжко. – По крайней мере, хозяева моего дома перепуганы насмерть, еле дышат, ходят на цыпочках, говорят шепотом «Гитлер капут» и мелким бесом заискивают перед солдатами. И юлят передо мной, как перед генералом. Даже пытаются приносить какую-то жуткую бурду «кафе» в постель. Наверняка убеждены, что переживают нашествие Чингисхана. Но немцы есть немцы. Крафт! Крафт! Преклонение перед силой.
– А мне любопытно, куда смылись хозяева моего дома, – проговорил Никитин. – Все оставлено – и никого.
– Ну, вот тебе представитель арийской расы, легок на помине, – сказал Княжко, морщась. – И, кажется, навеселе.
Навстречу, в узоре тени железной ограды, за которой неудержимо, буйно, снежно цвела сирень, продвигался, непрочно ступая по каменным плитам, пожилой краснолицый немец в черной паре – он приостановился вдруг, издали приподнял шляпу, обнажил малиновую широкую лысину и так, не надевая помятую шляпу, начал кланяться покорно и подобострастно, выговаривая заплетающимся языком:
– Guten Morgen, Herren Offiziere, guten Morgen… Рус карашо, Гитлер капут… аллес… Сталин гут, карашо, Гитлер плехо, капут, – повторял он с какой-то заведенной пьяной нелепостью заученный набор слов, пока Никитин и Княжко не поравнялись с ним, потом красное его лицо заискивающе задрожало крупными своими морщинами. – Entschuldigen sie, bitte, Herren Offiziere, geben sie mir, bitte, ein Stuck Zigerette.[1] Рус карашо сигаретте… Водка гут…
– У тебя есть? – строго спросил Никитина некурящий Княжко. – Дай ему. Где он набрался, этот ариец? По-моему, славяне показали широту души. Наверняка.
– Битте, – Никитин раскрыл пачку трофейных сигарет, и немец, все не надевая шляпу, тихонечко кончиками ногтей вытянул одну, застонал и сладострастно понюхал ее; тогда Никитин сказал: – Возьмите несколько штук… А, черт, как это по-немецки? Bitte, nehmen Sie noch Zigaretten, bitte, bitte![2]
– О! Nur zwei Zigaretten, danke schon, danke schon[3], – заговорил благодарно немец и так же аккуратненько взял вторую сигарету, рассмотрел пачку и воскликнул с притворным недоумением: – О, «Juno», deutsche Zigaretten! Danke schon, entschuldigen Sie, bitte, Herr Offizier[4], Гитлер капут! Auf Wiedersehen!.. Рус карашо!
И, держа над потной лысиной шляпу, немец долго стоял возле ограды, оборачивался, провожая Никитина и Княжко улыбкой вставных зубов.
– Рус карашо, водка гут. Вот, оказывается, что, – сказал Княжко, на ходу гибким телом гимнаста подтянулся, сорвал за оградой веточку сирени, вдохнул ее дошедший до Никитина холодноватый росистый запах и тотчас сурово сдвинул атласные брови. – Я вот о чем хотел поговорить, Вадим. Еще неизвестно, зачем нас отвели в Кенигсдорф. Думаю – не так просто. А после Берлина в батарее началась чепуха. Как будто война кончилась, и поголовно обалдели все. Из штаба никаких приказов. Свободного времени полно. Сегодня ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет – оказывается, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уже – из ряда вон! Если так – завтра же начну заниматься с батареей усиленной строевой. Хоть чем-нибудь встряхнуть, хоть этим вернуть славян на грешную землю. Иначе превратимся мы тут в умиленных телят.
– Да, – сказал Никитин. – В моем взводе тоже что-то такое ерундовое. Но ты знаешь, я сам не могу отделаться от чувства, что все кончилось…
Они замолчали. По середине мостовой шла группа солдат-саперов, донесся смех, перебористые звуки губной гармошки.
– Твой Меженин, по-моему, занялся одними трофеями, – проговорил Княжко и, переложив веточку сирени из правой руки в левую, ответил на приветствия поравнявшихся солдат, один из них, веселый, хитроглазый, бедово играл «Катюшу» на губной гармошке. – И он давит на всех. Ты это замечаешь?
– Замечаю, но он прекрасный командир орудия.
– Ты либерал – адвокат девятнадцатого века, – сказал Княжко. – Не вижу в этом разумной полезности. Ты командир взвода, и ты должен влиять на солдат, пока не все кончилось…
– Неужели ты думаешь, что еще не скоро кончится?
От закрытого бара на углу под старой вывеской, где был изображен медведь с пенившейся в лапе кружкой пива, они свернули на боковую улочку, всю здесь заставленную машинами артиллерийских тылов, фурами и повозками медсанбата, сплошь заросшую вдоль тротуаров старыми соснами, прошли сквозь их желтую тень, и в конце улочки, будто крыши раздвинулись впереди, обоих ослепила глубинная прозрачность голубого волнистого воздуха над полями, погожего голубого неба с легкими по высоте дымами весенних облаков, засияла солнечная даль молодой травы, разрезанная вытянутым за окраиной городка длинным зеркалом озера в песчаных, как курортные пляжи, берегах, – всюду, до горизонта, стоял теплый майский полдень.
– Я думаю, – сказал задумчиво Княжко, – что мы не простим себе, если окажемся в бессильном положении.
3В этом отдаленном от передовой тишайшем городке еще соблюдалась светомаскировка, и поздним вечером сидели с наглухо задернутыми шторами в большой комнате первого этажа, напоминавшей не то кабинет, не то библиотеку, с веселым азартом пили баварское пиво, раздобытое старшиной на берлинских складах, нещадно курили безвкусные трофейные сигареты и вели нескончаемые разговоры.
Было тут шумно, по-домашнему непривычно светился над столом стеклянный зеленый абажур керосиновой лампы, плыл в бесконечном течении сигаретного дыма, как в замутненной воде, покачивался фосфорической медузой среди поблескивающих корешков старинных книг в окружении оленьих рогов и темноватых картин, на которых сумрачными скалами возвышались под тучи очертания средневековых замков.
После ужина нежданно пришел сопровождаемый младшим лейтенантом медицинской службы Аксеновой комбат Гранатуров, раненный в руку на западном берегу Шпрее, двадцатипятилетний гигант с оглушительным басом. Он громогласно сообщил, что в медсанбате соскучился по дьяволам-огневикам, надоело кушать манные кашки, и вот с Галочкой оказалось ему по дороге, стало быть – принимайте гостей, если, конечно, здесь еще считают его комбатом. Тут же из разговора, когда начали вспоминать события дня, Гранатуров узнал о трофейных рейхсмарках, совсем теперь бесполезных бумажках от наложенного Никитиным вето, и, развеселившись, недолго размышляя, посоветовал пустить их в умное депо – раздать для интереса тысяч по десять и перекинуться в двадцать одно, чтобы выяснить, кому все-таки в любви везет, а кому и нет, и, глянув подмигивающе на Галю, на сдержанного лейтенанта Княжко, предложил:
– Прошу вас, Галочка, попытайте счастья, сядьте с нами. Интересно посмотреть, как в этом случае везет женщинам.
– Зачем? Вы хотите лишить меня особенностей слабого пола, Гранатуров? – безразлично сказала Галя, садясь на кожаный диван под книжными полками. – Это вам лично мало что даст.
– Мне лично везет как утопленнику, – вздохнул Меженин, выкладывая на стол из мешка пачки денег. – Хотел бы разок в медсанбатик попасть, товарищ младший лейтенант медицинской службы.
– Разумеется, началось бы невообразимое, за вами ходили бы по пятам с манной кашкой. Бедный медсанбат. – У нее был глубокий грудной голос, переплетенный тугой ниточкой насмешки, и, может быть, если бы не удлиненный нежный овал лица, нежная от вороненых волос и бровей белизна лба, она могла бы показаться не по-женски чересчур резковатой, как бывают нестесненно решительны медсанбатские врачи и сестры в обществе солдат.
– Итак, начнем картежную жизнь! – скомандовал Гранатуров. – Ша, славяне! Ахтунг!
Меженин первый поставил в банк и, пощелкивая, поигрывая, треща чистенькой атласной колодой с двойными портретами Гитлера вместо обычных валетов, начал сдавать карты.
– Книги, оленьи рога, старинные гравюры. И даже камин, – проговорила Галя и, пробежав темными глазами по комнате, очень длительно поглядела на Княжко и Никитина. – Чей-то нарушенный русскими уют… Представляю, как они могут нас бояться и ненавидеть. Лейтенант Никитин, вы сами здесь расположили свой взвод?
– Именно, – сказал Никитин. – Пустой дом. Хозяев нет.
– А лейтенант Княжко в соседнем доме? Вы рядом?
– Вероятно, – сухо ответил Княжко. – Вероятно, мой взвод в соседнем доме.
– Огневые взвода располагаются рядом, чтобы вы знали, Галочка! – пророкотал весело Гранатуров, взяв выкинутую Межениным на стол карту. – Еще одну. Так… Еще на счастье. Да, судьба – котелок, жизнь – балалайка, перебор! Вот кому везет во всех смыслах, сержант, так это тебе! Пять сотен враз проиграл! Дьявол ты везучий! Попробуй-ка, везет ли лейтенанту Княжко!
– Не отрицаю, по слухам, мама меня в лапоточках родила. – Меженин, довольный удачливым началом, подправил выросшую кучку денег в банке, снова защелкал картами. – Говорят, раньше эксплуататоры женщин в карты проигрывали и выигрывали. На сколько идете, товарищ лейтенант? Вам без всяких-яких полное очко подкатит – тройка, семерка, туз… Не пойдете втемную? – спросил он Княжко и вскинул ресницы, жестковато-ласковым взглядом обвел Галю, откинувшуюся на диване; суконная юбка цвета хаки стягивала ее сжатые колени, поблескивали сапожки. – Вот ежели бы вы, Галочка, жили в те времена и вас проиграли, чтоб вы сделали, интересуюсь?
– Втемную – нет. – Княжко еще не раскрыл выложенные на скатерть карты, как лицо его будто заострилось от короткого Галиного смеха, от грудного звука ее голоса:
– Остроумно шутите, Меженин! Но отвечаю вам без шуток. Вы средневековый феодал сорок пятого года. Если бы вы меня выиграли, не дай бог, я положила бы под подушку остро наточенный кинжал.
– И, значит, убили бы, не пожалели?
– Не задумалась бы. Ни на секунду.
– Проглоти, сержант, и улыбайся. Ясно? – восхищенно вскричал Гранатуров и здоровой правой рукой выдернул из ножен на ремне трофейный, зеркального блеска кортик, повертел им в воздухе. – Не подарить ли, Галя? На всякий случай!..
– Семнадцать, – бесстрастно сказал Княжко и открыл свои карты. – Что у вас, Меженин?
– Девятнадцать, товарищ лейтенант, – ответил, дунув на карты, Меженин и ухмыльнулся. – Ваша бита! Без всякого шулерства, чин чинарем. Эх, а вот в любви не везет…
– Прочти-ка, Княжко, что за слова на лезвии, – и Гранатуров бросил кортик на пачку рейхсмарок перед Княжко. – Ты один у нас по-немецки стругаешь. Слова – будь здоров! Прочти всем!
– Blut und Ehre, – хмурясь, прочитал Княжко вычеканенные слова на лезвии и перевел: – Блют – кровь, Эре – честь.
Меженин ловкой перетасовкой опытного игрока выгибал, выравнивал, подготавливая в ладони скользкую атласную колоду, с ухмылкой догадался:
– В общем, кинжальчик удачу означает. Вроде нашего – «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Вы – как, товарищ лейтенант? Сыграете на удачу? Втемную?
– Сдавайте карты, – сказал Никитин. – Мне все равно. На весь банк, что ли.
– Философ ты, Меженин, дальше ехать некуда! – Гранатуров щегольским движением вложил кортик в ножны. – Эту штуковину, друзья мои, в Берлине взял, в штабе летной школы гитлерюгенда на Шпрее. Правильно – кровь и честь. Сильно сказано. Оттого и Галочке предлагал. Налить пива, Княжко?
– Нет. Не налить.
– Прости, забыл – ты у нас не пьешь и не куришь. Аскет. Танковая броня. Железобетон!
Он нашел на столе раскупоренную бутылку, черные, жгучие глаза его с вопрошающим интересом окинули Галю с головы до узких хромовых сапожек, сложенных крестиком, спросил, улыбаясь:
– Вам не скучно с нами, Галочка?
Она уже не оказывала никому внимания, как бы отсутствующе сидела в уголке старинного кабинетного дивана, подперев кулачком щеку, другой рукой листала на коленях тяжелую от коленкорового переплета книгу, снежной белизны ее лоб наклонен, темнели строго слитые брови, какое-то новое, задумчивое и сдержанное напряжение было в ее лице.
– Галочка, – нежно зарокотал Гранатуров и гигантским корпусом перегнулся к ней. – Ну чего вы там в книгу хмуритесь? Поговорите с нами, бокал пивка выпейте, и все нормально будет. Если вас тут кто стесняет, так вы ноль внимания – вам все разрешено, вы как-никак, а офицер, Галочка!
Но едва он проговорил это, перекидывая усмешливый взгляд на Княжко, как тот брезгливо поморщился и, суховатый, перетянутый по чуть выпуклой груди портупеей, с тщательно зачесанными на косой пробор светлыми волосами, сказал холодным тоном неудовольствия:

