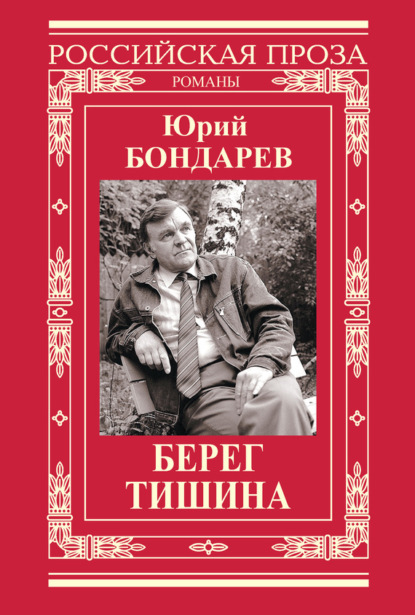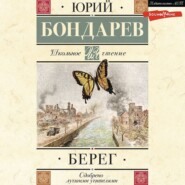По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Берег. Тишина (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вся батарея была построена на лужайке; вокруг зеленела трава, везде сильно грело солнце, весенние запахи обогретой травы, цветущей вдоль забора сирени, белых яблонь то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе, и эти запахи будто обмыли Никитина, когда он подошел к строю.
Лейтенант Княжко заканчивал физзарядку, что называлась особой, «пехотной», физзарядкой, порой применяемой им на отдыхе, – рукопашный и штыковой бой, приемы его, ни разу не использованные в батарее ни одним солдатом на передовой, ни самим Княжко, были, по его убеждению, необходимой тренировкой для физической закалки тела, заученной еще в пехотном училище.
Княжко, голый до пояса, стоял на краю лужайки у принесенного (по его приказу) из города и воткнутого в землю рекламного щита, где изображалась гигантская бутылка пива, опрокинутая над кружкой, вожделенно кипевшей шапкой пены, и, держа винтовку с примкнутым штыком, говорил внушительно маленькому рыжему Таткину:
– Что у вас за движения? Как бегаете? Как держите винтовку? Мускулы дряблые, плечи опущены, смотреть на вас неприятно. Убрать живот, грудь развернуть, спину выпрямить! Посмотрите, как это делается!
Княжко втянул и без того плоский живот, слегка развернул плечи, и его тонкая, прямая, мускулистая фигурка налилась изящной упругостью силы, гибкой и литой собранностью. Точно мальчик в гимнастическом зале проверял послушность развитых мышц перед упражнением.
Низкорослый Таткин, лоснясь на солнце белокожей спиной и безволосой грудью, усиливался подтянуть ремнем складку отвислого животика, вбирал шумными вдохами воздух, несколько сконфуженный, и всегда хитроватое, подсчитывающее что-то, усатое личико его выражало серьезность попытки. Было известно, что наводчик Таткин, бывший счетовод, постоянно считал, высчитывал про себя, выверял все, что поддавалось какому-либо исчислению, неизменно делил на порции хлеб, взводный табак и сахар, цепко держал в голове количество не выданных старшиной сухарей, количество выстреленных снарядов, подбитых танков, полученных батареей орденов и медалей, и, зная эту его арифметическую способность, солдаты, возбужденные физзарядкой, весело наблюдали за ним из строя, беззлобным смешком и советами подбадривали:
– А ты на счетах отщелкай, Таткин, на сколько сантиметров комод подтянуть можно! Отрастил передний предмет на вольных харчах!
– Пузом не дыши, сатана рыжий! Ишь, пыхтит быком! Всех задерживаешь, ты носом, носом, ноздрей дыши, ровно коза!
Лейтенант Княжко на эти замечания холодно мелькнул зелеными глазами по батарее, и развеселые голоса солдат утихли разом при его команде:
– Самых знающих попрошу выйти из строя и показать Таткину последнее упражнение – бросок в атаку!
Никто из «знающих» не выходил из строя, никто не вызвался показать бросок в атаку, трезвым ветерком смыло на лицах запоздалые улыбки; и тогда Княжко приказал поежившемуся от звука его голоса Таткину:
– Еще раз! Вложить в атаку ярость, уверенность и силу! И лицо, лицо, ваше лицо должно напугать того, кого вы атакуете! Ясно? Еще раз! Держите!
И молниеносным броском передал винтовку Таткину, тот неловко поймал ее захватом на грудь, крякнул, выставил штыком в наклон и затрусил, заколыхался рысцой вдоль строя по молодой траве лужайки.
– Стоп! – крикнул недовольный Княжко, подбегая к Таткину, и выхватил у него винтовку. – Отставить! Ваше счастье, что вы в артиллерии, а не в пехоте! Сходили бы в атаку только раз! И – конец, Таткин! Смотрите сюда! Всем смотреть сюда и запоминать! – громко скомандовал он батарее, и в один миг все весеннее и солнечное потускнело, изменилось здесь, на зеленой лужайке, вернее – изменилось, потеряло свои прежние черты лицо Княжко, оно стало страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью напора, его тело упруго и резко наклонилось вперед, винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении, – и он стремительными прыжками ринулся по лужайке к рекламному щиту, жутко крича что-то горлом нечленораздельное, вызывающее у Никитина мороз по спине.
Рекламный щит был уже в двух прыжках от сверкающей иглы штыка, и Княжко достиг его, изогнулся вправо, влево, его тонкий мускулистый торс напрягся в убыстренном скольжении, он косым и ловким выбросом вонзил острие штыка в середину рекламы, выдернул штык, вновь изогнулся, как бы уклоняясь от кого-то, и ударил сильно прикладом по краю щита, с треском валя, опрокидывая его на землю. Был все-таки в этой воображаемой борьбе некий невнятный момент, какая-то неясная грань, когда это действие могло показаться смешным Никитину, ненужной игрой в праздные упражнения, но вместе с тем в движениях Княжко была такая артистическая сила ненависти, такая пугающая ярость схватки, что возникло ощущение стальной пружинки, смертельно подвластной ему в этом броске.
– Ясно? – крикнул Княжко, обращаясь не к Таткину, а ко всей батарее, и мальчишеское лицо его приняло прежнее выражение холодноватого спокойствия, чуть упрямого, не разрешающего фамильярности высокомерия. – На этом закончим сегодня! А завтра повторим! Всем разойтись!
Он воткнул винтовку штыком в землю.
«Я знаю, зачем он это делает, – подумал Никитин. – Но почему я смотрю на Княжко, и мне кажется, что все скоро кончится не так, как мы хотим?»
Батарея, оживленная говором, смехом, рассыпалась между тем по лужайке, забелели в сквозистой тени сосен, среди яркой зелени незагорелые спины; иные кинулись умываться к водопроводной колонке под кустами сирени возле ограды, иные легли на траву, блаженно окунувшись в ее теплый пресный запах, не спеша закуривали трофейные сигареты, ожидая час завтрака, а кухня уже безмятежно курилась легчайшим дымком за снежной кипенью яблонь около дома, и повар, багровый от пахучего пара, орудовал, помешивал черпаком в котле.
«Как же все это со мной?.. – думал Никитин, глядя на водопроводную колонку, где умывался Княжко, окруженный солдатами. – И все случилось сегодня как в бреду, но было, было, а я не могу представить, что было у нас. Мы оба хотели этого? И она и я? И Меженин знает, что случилось?»
В это время сержант Меженин ленивой развалкой подошел к воткнутой в землю винтовке, его плечи, отлакированные солнцем, маслились потно, синяя татуировка выделялась распростертыми крыльями орла на волосатой его груди; он выдернул винтовку, почистил штык о траву.
«Так что же будет дальше?» – опять подумал Никитин и в тот момент, когда Меженин кончил чистить штык, вдруг перехватил мимолетно сощуренный взгляд сержанта на верхнем окне дома. И Никитин взглянул туда. Там за стеклом полукруглого окна мансарды, у края занавески, светлеющим силуэтом стояла Эмма и смотрела вниз. Он увидел ее неотчетливо, как в жидком туманно, и тут же острое сознание несоединимой расколотости, разъединенности между ним и ею, сознание случившейся, невозможной, сделанной сегодня ошибки знобящим уколом прожгло его, будто тайно предал самого себя перед всеми…
Она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел и должен был ненавидеть, по которому он три года стрелял, испытывая неистовое счастье от одного вида охваченных дымом подбитых танков, она была в том мрачном, чужом, отвергаемом им мире, заставлявшем его после каждого боя хоронить своих солдат в заваленных прямыми попаданиями ровиках, писать самые трудные письма, эти объяснения, эти оправдания командира взвода, по выбору обманчивого топорика смерти оставшегося в живых. Она была там, на другом берегу, за разверстой пропастью, а он был на этом берегу, залитом кровью, и ничто не давало ему права, ничто не позволяло ему хотя бы на минуту забыть все и перекинуть жердочку на ту опасную противоположную сторону, где было недавно раннее утро, лавандовый запах ее вымытых волос, ее шершавые губы. «Как это получилось? Зачем же это получилось у меня? Я не прощу себе…»
Да, она была там… И она почему-то стояла за краем занавески в окне мансарды и, заслоняя глаза от солнца, смотрела вниз, на блещущую травой лужайку, где ходили, лежали, курили, шумно умывались под колонкой солдаты и где был он, среди своих, родственно связанный с ними всей судьбой, войной, всей жизнью и отъединенный от нее этим солнечным оконным стеклом, сочной лужайкой, утренними разговорами солдат и невероятно тихим немецким городом, куда они пришли из Берлина через огромный, враждебный, убивающий мир.
– Наблюдает немочка-то, а? – сказал безвинно Меженин, проходя мимо Никитина, и, так же безвинно подмаргивая, помахал ей рукой. – Ишь глазеет на русских, бесенок. На вас глазки пялит, товарищ лейтенант. Или шпионит немочка?
А она сверху заметила его жест, вспугнутой тенью отпрянула, исчезла в проеме окна, колыхнулась тюлевая занавеска, и тотчас знойными спиральками в голове Никитина пронеслось: «Вади-им, Ва-ди-им», – он сделал усилие над собой, голосом приказа сказал:
– Вот что, Меженин. Сегодня позавтракать, накормить людей без пива, ясно? Через час – взвод к орудиям. Проведем занятие. Заниматься будем каждый день.
– Ясныть, – ответил Меженин, и в покорном подрагивании его ресниц таилось насмешливое согласие: я-то уж понимаю все.
«Нет, не все! Все кончено с этим!» – решенно подумал Никитин, овеянный чувством внезапного освобождения от чего-то недозволенного, поневоле совершенного им, мутно угнетающего его, и быстрыми шагами направился к Княжко, а тот, окатив себя водой до пояса, расхаживал подле плещущей струи колонки, осажденной солдатами, тщательно растирал полотенцем мускулистый покрасневший торс.
– Я любовался на тебя, Андрей, – сказал Никитин. – Просто отлично! Пехота в тебе еще сидит.
– Детские игрушки, – ответил пренебрежительно Княжко и, недовольный, заговорил: – Марки, трофеи, карты, «двадцать одно», убиваем время, жиреем и начинаем разлагаться. И знаешь почему? Все конца ждут, а конца нет. Зашвырнули нас куда-то на кулички от Берлина. А смысл? Неясен. Тем более – на западе бои. Как наши новоиспеченные хозяева? Курт, значит, ушел? А эта Эмма осталась? – спросил Княжко. – Ты знаешь?
– Да. Ушел. В Гамбург, – сказал Никитин и сейчас же перевел разговор: – Рацию слушал? Что нового? Как там?
– В Берлине – никаких изменений, – ответил Княжко.
Перед завтраком проверяли огневые.
Позиция батареи начиналась в ста пятидесяти метрах от дома – орудия были врыты на краю поля за оградой яблоневого сада, – и они шли к огневым в полной тишине приозерного луга, еще росного, влажно-пахучего, трава сочно хлестала по сапогам, шли, как бывало когда-то давным-давно на подмосковных дачах, и Никитин, опьяненный этим утренним покоем открытых впереди голубоватых далей, солнцем, запахами согретой земли, струистым парком над озером, первым нарушил молчание:
– А вообще не верится, что не кончилась. Когда же, Андрей? Через две недели? Через месяц?
– Тогда, когда кончится, – резко ответил Княжко и приостановился, раздумчиво вглядываясь в земляные бугры недалекой огневой позиции. – Вот тебе ответ на твой вопрос: часового на батарее не вижу. Полнейшее курортное настроение у всех.
– Это началось в первый день, – сказал Никитин. – А что сделаешь, Андрей? Все чувствуют, что скоро…
– И твой часовой тоже? Где он?
Но Княжко ошибся: часовой находился на огневой позиции, полудремотно лежал посреди снарядных ящиков в нише, глаза и лоб прикрыты от солнца пилоткой, автомат покоился около ног, ремень распущен на животе. Заслышав рядом шаги, он подтянул ноги, сел, закрутил головой, громко откашлялся, давая о себе знать, на всякий случай угрожающе окликнул:
– Стой, кто идет? – И неудержимо заулыбался во всю ширину разомлевшего потного лица. – А, товарищи лейтенанты! А я слышу – сюда никак…
– Снов не видели, Ушатиков? – поинтересовался Княжко бесстрастным голосом. – В горизонтальном положении мне, например, всякая дьявольщина снится. Какая, спросите? Ну, скажем, что часового вместе с орудиями и снарядами немцы украли. Возможно, Ушатиков?
– Не-е, не спал я, товарищ лейтенант, на солнышке чуток после росы подзагорал, очень ласковое солнышко-то, – еще добродушнее расплылся Ушатиков. – Откуда? Какие немцы-то? И не шелохнутся теперь. Берлин как-никак наш, дураки они, что ли? Во, товарищ лейтенант, что сержант Меженин мне подарил, время в аккурат буду знать. Трофе-ей!
И, чрезвычайно счастливый, он выставил на запястье часы, пленительно сияющие стеклом и никелем, послушал их, после чего удивленно сообщил шепотом:
– Тикают себе, фрицы, и тикают. И чего они тикают?
– Дети какие-то, – дернул плечом Княжко, хотя сам был, видимо, моложе Ушатикова года на два, и, сказав, опустился на станину, посмотрел своими серьезными неулыбчивыми глазами на ниточку шоссе за озером, по которому в белесой дымке пыли двигались к лесу машины из городка. Спросил; – У вас что – первые часы за войну, Ушатиков?
– Не было у меня, мечтал я… – ответил длинношеий Ушатиков и осторожненько, рукавом гимнастерки смахнул невидимые пылинки со стекла часов, протер никелированный ободок циферблата любовно. – А непонятное это дело – часы, ума не приложу. Крохотные колесики там крутятся. Живое все. Как дыхание в них. И идут себе, идут. Навроде крохотные человечки в них работают молоточками. А зачем людям время показывать, товарищ лейтенант? Вот интересно… Без него жить можно или нельзя? День так день, ночь так ночь. Зачем это все люди придумали? Чудно!