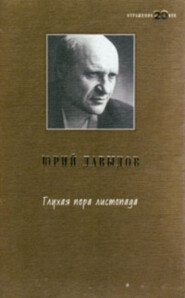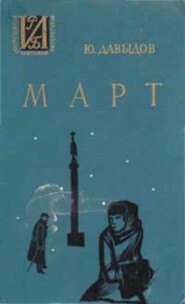По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да он и сам, Нечаев Сережа, не умел объяснить своему учителю, отчего выбирает такие сюжеты. Не умел? А может, не хотел? Отвечал кратко: «Дураки все, вот и мучаются». Или так: «Дураков жалеть нечего». Учитель, головой качая, ласково толковал о великой исцеляющей силе милосердия, ученик слушал, пряча узкие глаза, казалось учителю, мелькала в тех глазах, похожих на лезвия, странная, опять же недетская усмешливость.
О, если б знал учитель, как Сережа написал однажды про высыхающих мальчиков. Нет, не знал. Никому не показывал Сережа вот это свое сочинение на вольную тему.
Были такие мальчики в селе Иванове, работали в урчащем аду фабричных сушилен, душных и влажных, с решетчатым полом и решетчатым потолком. Работали и исчезали, как и не жили на свете. О таких говорили: «Высыхают, и шабаш». Их неприметное, бесшумное исчезновение мучило Сережу, как иногда пугает и мучает детей мысль о смерти. И не мог Сережа ни полсловечка обронить о них своему учителю. Тут тайна была, он берег тайну, он сам должен был разрешить ее и знал это. А они ему снились, высыхающие мальчики. Будто певчие с полуоткрытыми ртами. Все в белом стояли в углах горницы или плавно плавали, наклоняясь к изголовью. И вот уж – не певчие, а белые свечечки оплывают, роняя белесые слезы.
Жажда знания томила Сергея. Он купил учебники. Хочешь стать народным учителем – сдай сперва за гимназию. В библиотеке для приказчиков плати гривенник и абонируйся. Там яркие настенные лампы и легкие стулья с плетеными сиденьями. Но книги… «Французские ерундисты», – презрительно отверг он Эжена Сю, Понсона дю Террайля, Поля де Кока. Библиотекарь обиженно повел носом: «А нашим конторщикам никакой Бокля не требуется. С ума спятят». Ладно, конторщикам не требуется, а вот ему… Он по случаю раздобыл «Историю цивилизации в Англии» этого самого Бокля. А в библиотечном чулане сдувал паутину с комплектов «Современника».
Папаня, однако, нуждался в помощничке. Папаня вывески малевал: для мясной лавки благодушную свиную харю, для магазина готового платья – вальяжного усача; черную с золотом для фабрики в пять этажей и щегольскую, в завитушках, – для каменного особняка, где окна задернуты штофными драпировками. А те вывески, что назывались «красными», присвоены были лишь портерным и трактирам.
Нечаев-младший досадовал: малеванье отнимало время. Но все ж то было ремесло. Ремесло и ремесленников он уважал. Ремесло и ремесленники, как его дед со своей красильней, противостояли Гарелиным и Зубковым с их фабриками. К уважению примешивались страх и горечь: окрестные фабрики пожирали дедов, как пожирали и окрестные леса, порошила гарь индустрии, грозя разореньем.
Сколь ни жаль было времени, отнятого от наук, Нечаев-младший помогал папане: кисти мыл и палитру, простые надписи делал, эти вот, которые без фигур, по трафарету, со шнурком, натертым мелом. А папане вдрут принадоела мазня-возня, хоть и брал не дурно – с квадратного аршина не меньше двух рублей. Нет, надоело! Был папаня скор на ногу, ухватист, остер на язык. Ловко носил фрак, натягивал белые нитяные перчатки, повязывал белый галстук: учредитель-распорядитель всяческих празднеств ивановских толстосумов. И сыну своему надел нитяные перчатки: физика-химия подождет, изволь лакейничать.
Прислуживая, ненавидел Сергей тех, кому прислуживал. Не потому лишь, что богаты. Потому, главное, что были они, как и папаня, из мужиков. Но из бедняцкого иль середнего ранжира выломились – вломились в разряд капиталистых. Свой брат мужик не был ни своим, ни братом. Плевал он и блевал на «историю цивилизации».
Высыхающие мальчики дышали в затылок. И тяжело-краеугольно ложилось такое, отчего учитель ужаснулся бы: чем хуже, тем лучше, думал худенький, скуластый юноша с глазами как лезвия. Пусть грабят хлеще, в хвост, в гриву, в бога и душу, взапуски, беспощадно, без роздыха. Чем хуже, тем лучше, ибо скорее и круче выхлестнет отчаяние высыхающих мальчиков. Грянут они в трубы, и будет солнце мрачным, как власяница.
На речке Уводи стояло фабричное село Иваново, русский Манчестер; далеко уводила речка Уводь – к последним временам.
Он осудил мир на крушение и возмездие. И ушел в этот осужденный мир. Высыхающие мальчики шли следом. Смутно белея, изготовились вострубить в семь труб.
* * *
В ту зиму продолжались студенческие волнения. Или, как обозначали департаментские перья, «беспорядки на академической почве». Начались поздней осенью, а после рождественских вакатов взялись пуще: сходки с нешуточной угрозой чайной посуде, – ораторы, горячась, гремели молодыми кулаками по столу.
Нечаев забросил частные уроки. Он остался на бобах, отослав рублевочки домой, в Иваново. Ему надо было поспеть на все сходки. И он поспевал. Ничего серьезного – кассы взаимопомощи, распределение пособий, свобода факультетских собраний. Черт бы побрал долговолосых витий, ежели не учинят они форменный бунт, открытую политическую демонстрацию. И Нечаев бил методически. Бил, упоминая решения некоего Комитета действия, некоего Центрального комитета. Он не говорил: я думаю, говорил: мы думаем; не говорил: я решил, говорил: мы решили. Какая магия в подмене местоимений! Она развивала упругую центростремительную силу, но центр-то пребывал невидимым. Пусть так, вот же он здесь, этот худенький, этот скуластенький, у него резкие, нервные жесты, властный взгляд и ногти, изгрызенные до крови.
Его слушали, но точка кипения, такая, казалось, близкая… Еще чуть, еще немного… Был нужен толчок, внезапный и сильный. Нечаев как озирался. Набегали минуты горького одиночества, когда можешь зарезать и можешь зарезаться. Толчок нужен внезапный и сильный.
И Нечаев исчез.
Передавали, что его схватили на Шпалерной и доставили в Третье отделение. Еще одна жертва безоглядного произвола. И какая жертва, господа! А мы безмолвствуем, вот так-то, коллеги, да-с, извечно расейский телячий студень.
Передавали, что после жандармского допроса его водворили в крепость. О, русская Бастилия, голгофа честных из честных – оледенелые куртины «и на штыке у часового горит полночная луна». Пойдите, коллега, еще и еще взгляните на этот ужасный гроб, где мертвые тираны и умирающие тираноборцы.
И вот из уст в уста, с гулким, в ребра, стуком сердца: друзья мои, народ готов к революции, ждет сигнала, будьте достойны народа, продолжайте борьбу… Сильнее слов было то, что записку свою Нечаев выбросил из окна кареты, грохотавшей на пути в крепость. Да, да, представьте, изловчился и выбросил, как бутылку с погибающего корабля.
Не по углам, не в кухмистерской, нет, в аудитории была сходка. Может, самая людная, самая бурная изо всех прежних. Ректора! Ректора! Арестован наш коллега, требуем ректора!
Ректор отставил микроскоп. Почтенный натуралист, не чуждый сочувствия к студиозусам, он пришел в бурлящую аудиторию. Чего они просили-требовали, возбужденные молодые люди, забывшие долг свой перед матерью-наукой? Поезжайте к министру, вырвите нашего собрата из узилища! Кто арестован? Нечаев? Кто такой этот Нечаев? Помилуйте, господа, мне уже доложили: в списках матрикулированных студентов таковой не числится. Ах, вольнослушатель? Увольте, господа, вот ежели б матрикулированный студент… И ректор развел руками.
* * *
Я предупреждал – объезд выйдет долгим.
Давно уж оставили мы подмосковное Разумовское, тамошний грот, где затаились убийцы, и тускло заледенелый пруд с черной прорубью рядом с гривкой ржавых камышей.
Да ведь как было не отойти вспять? События-то какие? И арест, и Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, и куртина, на которую тяжело звонкой капелью падают удары петропавловских курантов.
Я, однако, мимо, я вас сейчас за кордон, в Швейцарию, подальше от штыка с полночной луною. Впрочем, и туда, на берега прелестной Роны, мы ненадолго. Это уж потом, позже, я удержу вас в Женеве – городе мирных буржуа, часовщиков и ювелиров, эмигрантов и врачей, пользующих неврастеников со всех концов Европы. Потом, позже, Нечаев изведает в Швейцарии и любовь, и крушение, ту роковую минуту, когда некто осанистый объявит насмешливым баском: «Ба! Господин Нечаев, наконец-то я имею случай познакомиться с вами поближе!»
А сейчас знакомятся с ним люди иные.
* * *
В Женеву, к Николаю Платоновичу, пришло письмо. Огарев улыбнулся: послание, пожалуй, экзальтированное. Впрочем, оно и понятно – этот молодой человек бежал из Петропавловской крепости, поневоле заговоришь, стоя на котурнах… К письму была приложена прокламация – обращение к русским студентам. Прокламация дышала боевым жаром. Огарев чувствовал, как эта энергия проливает в его усталую грудь «отрадное похмелье». В последнее время он читал в русских журналах – жива крестьянская община, жива, стало быть, и социальная революция. А теперь вот это письмо, сильный голос.
И Огареву, и Бакунину Нечаев явился нечаянной радостью. Они распахнули объятия посланцу молодой России. Диковат, угловат, неотесан, глядишь, и харкнет на пол? Пустое, детская болезнь. Зато какие практические планы, зато какие товарищи ждут не дождутся его в России. И как это прекрасно, что Сергей-то Геннадиевич, недавний узник, не помышляет об эмиграции. Она же хуже сибирской ссылки, хуже смерти – бессмысленное прозябание на чужбине. Вот он, наконец явился истинный практический революционер.
Правда, Герцен… Герцену случилось тогда быть в Женеве, и наш русский манчестерец был ему представлен. Александр Иванович сказал: у Нечаева змеиный взгляд. А самого Нечаева вопросил брезгливо: «А что это у вас, Сергей Геннадиевич, все резня на уме?» Нечаев на рожон не полез. У Герцена – деньги, революционный фонд. Деньги нужны были Нечаеву. Не карманные, не личные, это следует признать. Пылкую влюбленность в Нечаева своих старых друзей Герцен не разделил, однако часть – и немалую – революционного фонда отдал.
Нечаеву «старички» очень понравились. Покладистые старички, худого не скажешь. И ни тени дворянской, барственной снисходительности к нему, простолюдину. Ну, ну, Сергей Геннадиевич, говорил он себе, ты, брат, смотри, не того, не размякни.
С Бакуниным, окутанным клубами дыма, как Саваоф облаками, вел Нечаев долгие разговоры. Бакунин, опустив набрякшие веки, одобрительно покачивал львиной головой.
«Лимонов» Нечаев не забывал. Очень это было сподручно отсюда, из Женевы, возжигать революционный дух в их дряблых душах. Ни себя, ни почту не жалея, писал, писал Сергей Геннадиевич письма и прокламации, дюжинами отправлял, и чертовыми дюжинами: знакомым, полузнакомым, вовсе незнакомым. Послушайте, мол, у нас тут такой суп варится – всей Европе не расхлебать, но и вы, «гой, ребята», не спите, приступайте к активным действиям. Одному поручал одно, другому – другое: опасное и полуопасное, нелегальное и полулегальное. И прекрасно сознавал, что не все, отнюдь не все откликнутся на его призывы. Пусть, не в этом гвоздь.
В Петербурге, на почтамте, в черном кабинете семь потов спустили, вылавливая женевские конверты и пакеты. Без малого шестьсот выловили. Вообразите на минуту физиономии перлюстраторов, тех, что протирали штаны на Почтамтской, в черном кабинете:
Получил ли ты хоть одно из моих писем? Если получил, что тебе мешает ответить: подлость или трусость? Ни того, ни другого пока не предполагаю. Но это молчание тоже необъяснимо. Во всяком случае отвечай на вопросы, поставленные категорически. Переделался ли ты в буржуа или в тебе уцелели свежие силы, годные для настоящего, бесфразного дела? Если есть еще эти силы, если русская жизнь душит тебя, как и всех нас, если ты еще не вошел в сок и смак бесхарактерного скептицизма на сытое брюхо, если, одним словом, ты еще можешь отозваться на дело, не начиная его сам, то отзовись – nopa! Время фразы кончилось – наступает время дела; нечего ждать почина авторитетных умников; на них надежда плоха. Надо, брат, полагаться на свои силы, на силы бесприютного, голодного люда. Скоро кризис в России; гораздо сильнее того, что был при объявлении воли обманутому царем народу; или опять наши умники, красноречиво глаголющие и пишущие, остановятся на словах и не бросятся возглавить народные толпы; или опять мужицкая кровь даром и безобразные, неорганизованные, многочисленные массы будут усмирены картечью? Срам!.. Народ восстает и борется, а цивилизованная сволочь, изучающая права человека, остается безгласной и безучастной к делу мужика. Пора, брат, за дело, за настоящее, практическое дело. Если сумеешь, то собери деньжонки, сколько можешь, здесь они нужны. В России еще не перевелся класс благодушно-либеральных личностей, которые для известного дела если пожалеют шкуру, то не пожалеют кошелька.
Конечно, и такое письмо доставляли по адресу. Да только адресат-то сразу оказывался под неотступным наблюдением. А то и попадал в казенный дом. Олухи царя небесного, ведь Сергею-то Геннадиевичу подчас только это и надо было: ну-ну, лимончик, посиди-ка под замком, за решеткою, авось и выпечется из тебя революционер истинный.
* * *
Из Женевы Нечаев поехал в Москву.
Был август. Приспел яблочный спас. Над городом мягко светилось белое облако. В библейский день преображения из белого облака раздался глас повелительный: «Его слушайте!»
Патриархи – Бакунин и Огарев – благословили Нечаева. Витал над ним женевский глас: «Его слушайте!»
(Прощаясь, Бакунин обнял Нечаева: «Вот какие люди-то в России, а?» Огарев салютовал пенковой трубкой. У Нечаева был мандат: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза». Мандат, подписанный Бакуниным. И была у Нечаева тетрадь: «Катехизис революционера». Тетрадь, начатая еще в Питере, законченная в Женеве. Нечаев был готов к созданию «Народной расправы». За его спиной неслышной поступью шли высыхающие мальчики. Время фразы кончилось, наступило время дела.)
С торжища у Сухаревой башни веяло антоновкой. И антоновкой веяло из садов и погребов Первой Мещанской. В мезонине у четы Успенских угощали Нечаева яблоками. Он надкусывал с хрустом, белый сок вскипал.
Ничего не скажешь, красивая парочка. Этот хоть сейчас на картину: «Ушкуйник». Или «Опричник». А Шурочка… Мимоездом, прошлой зимой, при первом знакомстве она показалась Нечаеву дурнушкой. А нынче-то разглядел! Лоб высок и чист, темные волосы густы и чуть вьются, нос тонок и прям, вся дышит отвагой. Ничего не скажешь, хороша. И можно было б позавидовать супругу, когда бы супруга-то не того-с, не брюхата. Наше дело прямое, страшное, беспощадное, а в этом чистеньком мезонинчике, где патриархально пахнет антоновкой, не сегодня завтра: «агу-агу».
На Успенского, приказчика книжного магазина, пристанище радикалов, Нечаев ставил свою первую московскую карту. Почин был дорог. И Нечаев встревожился, как бы Успенский не попятился.
Опасения усилились, мешаясь с желчью, когда тот не согласился с формулой: любить народ – значит водить народ под картечь. И не очень-то склонялся признать, что розы социализма расцветают, лишь орошенные кровью… Но вот глянул просвет в тучах: давно пора, полагал Успенский, давно пора упразднить словесный гомон в кружках саморазвития да и шагнуть широко в прямое дело. А прямое дело – вот оно, желанное! – прямое дело, поддакнул Успенский, в революционном заговоре.
Лицо Нечаева приняло отрешенное и жесткое выражение, он показал мандат: «Податель сего…» Объяснил кратко, но значительно: Всемирный союз есть не что иное, как Интернационал, Международное товарищество рабочих; русский отдел возглавляет Бакунин, а Нечаев уполномочен действовать в пределах империи. Успенский порывисто поднялся, Шурочка, притаив дыхание, смотрела на Нечаева.
– Теперь это, – сказал Нечаев. И медленно выпростал из внутреннего кармана тетрадочку. – Писано Михаилом Александровичем Бакуниным. Потом зашифровано. Называется: «Катехизис революционера». – Он осторожно опустил тетрадь на стол, прикрыл ладонью с растопыренными пальцами, нахмурился и стал отчетливо, как диктуя, произносить заповеди: если ты революционер, рви со всем образованным миром, с его нравственностью и условностями; если ты революционер, подави в себе все чувства родства и дружбы, не признавай ничего, кроме холодной страсти к нашему общему делу; если ты революционер не совсем посвященный, то есть второго и третьего разряда, гляди на себя как на часть капитала, отданного в безотчетное распоряжение революционера первого разряда; если ты революционер, соединись с диким разбойным миром, зубодробительной силой всероссийского мятежа…
Успенский выслушал стоя, как гимн. Нечаев понял: промаха нет. И не дрогнул, услышав:
– Обдумать надо. У меня, Сергей Геннадьич, правило: ежели приму в принципе, тогда уж хоть каленым железом.
О, если б знал учитель, как Сережа написал однажды про высыхающих мальчиков. Нет, не знал. Никому не показывал Сережа вот это свое сочинение на вольную тему.
Были такие мальчики в селе Иванове, работали в урчащем аду фабричных сушилен, душных и влажных, с решетчатым полом и решетчатым потолком. Работали и исчезали, как и не жили на свете. О таких говорили: «Высыхают, и шабаш». Их неприметное, бесшумное исчезновение мучило Сережу, как иногда пугает и мучает детей мысль о смерти. И не мог Сережа ни полсловечка обронить о них своему учителю. Тут тайна была, он берег тайну, он сам должен был разрешить ее и знал это. А они ему снились, высыхающие мальчики. Будто певчие с полуоткрытыми ртами. Все в белом стояли в углах горницы или плавно плавали, наклоняясь к изголовью. И вот уж – не певчие, а белые свечечки оплывают, роняя белесые слезы.
Жажда знания томила Сергея. Он купил учебники. Хочешь стать народным учителем – сдай сперва за гимназию. В библиотеке для приказчиков плати гривенник и абонируйся. Там яркие настенные лампы и легкие стулья с плетеными сиденьями. Но книги… «Французские ерундисты», – презрительно отверг он Эжена Сю, Понсона дю Террайля, Поля де Кока. Библиотекарь обиженно повел носом: «А нашим конторщикам никакой Бокля не требуется. С ума спятят». Ладно, конторщикам не требуется, а вот ему… Он по случаю раздобыл «Историю цивилизации в Англии» этого самого Бокля. А в библиотечном чулане сдувал паутину с комплектов «Современника».
Папаня, однако, нуждался в помощничке. Папаня вывески малевал: для мясной лавки благодушную свиную харю, для магазина готового платья – вальяжного усача; черную с золотом для фабрики в пять этажей и щегольскую, в завитушках, – для каменного особняка, где окна задернуты штофными драпировками. А те вывески, что назывались «красными», присвоены были лишь портерным и трактирам.
Нечаев-младший досадовал: малеванье отнимало время. Но все ж то было ремесло. Ремесло и ремесленников он уважал. Ремесло и ремесленники, как его дед со своей красильней, противостояли Гарелиным и Зубковым с их фабриками. К уважению примешивались страх и горечь: окрестные фабрики пожирали дедов, как пожирали и окрестные леса, порошила гарь индустрии, грозя разореньем.
Сколь ни жаль было времени, отнятого от наук, Нечаев-младший помогал папане: кисти мыл и палитру, простые надписи делал, эти вот, которые без фигур, по трафарету, со шнурком, натертым мелом. А папане вдрут принадоела мазня-возня, хоть и брал не дурно – с квадратного аршина не меньше двух рублей. Нет, надоело! Был папаня скор на ногу, ухватист, остер на язык. Ловко носил фрак, натягивал белые нитяные перчатки, повязывал белый галстук: учредитель-распорядитель всяческих празднеств ивановских толстосумов. И сыну своему надел нитяные перчатки: физика-химия подождет, изволь лакейничать.
Прислуживая, ненавидел Сергей тех, кому прислуживал. Не потому лишь, что богаты. Потому, главное, что были они, как и папаня, из мужиков. Но из бедняцкого иль середнего ранжира выломились – вломились в разряд капиталистых. Свой брат мужик не был ни своим, ни братом. Плевал он и блевал на «историю цивилизации».
Высыхающие мальчики дышали в затылок. И тяжело-краеугольно ложилось такое, отчего учитель ужаснулся бы: чем хуже, тем лучше, думал худенький, скуластый юноша с глазами как лезвия. Пусть грабят хлеще, в хвост, в гриву, в бога и душу, взапуски, беспощадно, без роздыха. Чем хуже, тем лучше, ибо скорее и круче выхлестнет отчаяние высыхающих мальчиков. Грянут они в трубы, и будет солнце мрачным, как власяница.
На речке Уводи стояло фабричное село Иваново, русский Манчестер; далеко уводила речка Уводь – к последним временам.
Он осудил мир на крушение и возмездие. И ушел в этот осужденный мир. Высыхающие мальчики шли следом. Смутно белея, изготовились вострубить в семь труб.
* * *
В ту зиму продолжались студенческие волнения. Или, как обозначали департаментские перья, «беспорядки на академической почве». Начались поздней осенью, а после рождественских вакатов взялись пуще: сходки с нешуточной угрозой чайной посуде, – ораторы, горячась, гремели молодыми кулаками по столу.
Нечаев забросил частные уроки. Он остался на бобах, отослав рублевочки домой, в Иваново. Ему надо было поспеть на все сходки. И он поспевал. Ничего серьезного – кассы взаимопомощи, распределение пособий, свобода факультетских собраний. Черт бы побрал долговолосых витий, ежели не учинят они форменный бунт, открытую политическую демонстрацию. И Нечаев бил методически. Бил, упоминая решения некоего Комитета действия, некоего Центрального комитета. Он не говорил: я думаю, говорил: мы думаем; не говорил: я решил, говорил: мы решили. Какая магия в подмене местоимений! Она развивала упругую центростремительную силу, но центр-то пребывал невидимым. Пусть так, вот же он здесь, этот худенький, этот скуластенький, у него резкие, нервные жесты, властный взгляд и ногти, изгрызенные до крови.
Его слушали, но точка кипения, такая, казалось, близкая… Еще чуть, еще немного… Был нужен толчок, внезапный и сильный. Нечаев как озирался. Набегали минуты горького одиночества, когда можешь зарезать и можешь зарезаться. Толчок нужен внезапный и сильный.
И Нечаев исчез.
Передавали, что его схватили на Шпалерной и доставили в Третье отделение. Еще одна жертва безоглядного произвола. И какая жертва, господа! А мы безмолвствуем, вот так-то, коллеги, да-с, извечно расейский телячий студень.
Передавали, что после жандармского допроса его водворили в крепость. О, русская Бастилия, голгофа честных из честных – оледенелые куртины «и на штыке у часового горит полночная луна». Пойдите, коллега, еще и еще взгляните на этот ужасный гроб, где мертвые тираны и умирающие тираноборцы.
И вот из уст в уста, с гулким, в ребра, стуком сердца: друзья мои, народ готов к революции, ждет сигнала, будьте достойны народа, продолжайте борьбу… Сильнее слов было то, что записку свою Нечаев выбросил из окна кареты, грохотавшей на пути в крепость. Да, да, представьте, изловчился и выбросил, как бутылку с погибающего корабля.
Не по углам, не в кухмистерской, нет, в аудитории была сходка. Может, самая людная, самая бурная изо всех прежних. Ректора! Ректора! Арестован наш коллега, требуем ректора!
Ректор отставил микроскоп. Почтенный натуралист, не чуждый сочувствия к студиозусам, он пришел в бурлящую аудиторию. Чего они просили-требовали, возбужденные молодые люди, забывшие долг свой перед матерью-наукой? Поезжайте к министру, вырвите нашего собрата из узилища! Кто арестован? Нечаев? Кто такой этот Нечаев? Помилуйте, господа, мне уже доложили: в списках матрикулированных студентов таковой не числится. Ах, вольнослушатель? Увольте, господа, вот ежели б матрикулированный студент… И ректор развел руками.
* * *
Я предупреждал – объезд выйдет долгим.
Давно уж оставили мы подмосковное Разумовское, тамошний грот, где затаились убийцы, и тускло заледенелый пруд с черной прорубью рядом с гривкой ржавых камышей.
Да ведь как было не отойти вспять? События-то какие? И арест, и Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, и куртина, на которую тяжело звонкой капелью падают удары петропавловских курантов.
Я, однако, мимо, я вас сейчас за кордон, в Швейцарию, подальше от штыка с полночной луною. Впрочем, и туда, на берега прелестной Роны, мы ненадолго. Это уж потом, позже, я удержу вас в Женеве – городе мирных буржуа, часовщиков и ювелиров, эмигрантов и врачей, пользующих неврастеников со всех концов Европы. Потом, позже, Нечаев изведает в Швейцарии и любовь, и крушение, ту роковую минуту, когда некто осанистый объявит насмешливым баском: «Ба! Господин Нечаев, наконец-то я имею случай познакомиться с вами поближе!»
А сейчас знакомятся с ним люди иные.
* * *
В Женеву, к Николаю Платоновичу, пришло письмо. Огарев улыбнулся: послание, пожалуй, экзальтированное. Впрочем, оно и понятно – этот молодой человек бежал из Петропавловской крепости, поневоле заговоришь, стоя на котурнах… К письму была приложена прокламация – обращение к русским студентам. Прокламация дышала боевым жаром. Огарев чувствовал, как эта энергия проливает в его усталую грудь «отрадное похмелье». В последнее время он читал в русских журналах – жива крестьянская община, жива, стало быть, и социальная революция. А теперь вот это письмо, сильный голос.
И Огареву, и Бакунину Нечаев явился нечаянной радостью. Они распахнули объятия посланцу молодой России. Диковат, угловат, неотесан, глядишь, и харкнет на пол? Пустое, детская болезнь. Зато какие практические планы, зато какие товарищи ждут не дождутся его в России. И как это прекрасно, что Сергей-то Геннадиевич, недавний узник, не помышляет об эмиграции. Она же хуже сибирской ссылки, хуже смерти – бессмысленное прозябание на чужбине. Вот он, наконец явился истинный практический революционер.
Правда, Герцен… Герцену случилось тогда быть в Женеве, и наш русский манчестерец был ему представлен. Александр Иванович сказал: у Нечаева змеиный взгляд. А самого Нечаева вопросил брезгливо: «А что это у вас, Сергей Геннадиевич, все резня на уме?» Нечаев на рожон не полез. У Герцена – деньги, революционный фонд. Деньги нужны были Нечаеву. Не карманные, не личные, это следует признать. Пылкую влюбленность в Нечаева своих старых друзей Герцен не разделил, однако часть – и немалую – революционного фонда отдал.
Нечаеву «старички» очень понравились. Покладистые старички, худого не скажешь. И ни тени дворянской, барственной снисходительности к нему, простолюдину. Ну, ну, Сергей Геннадиевич, говорил он себе, ты, брат, смотри, не того, не размякни.
С Бакуниным, окутанным клубами дыма, как Саваоф облаками, вел Нечаев долгие разговоры. Бакунин, опустив набрякшие веки, одобрительно покачивал львиной головой.
«Лимонов» Нечаев не забывал. Очень это было сподручно отсюда, из Женевы, возжигать революционный дух в их дряблых душах. Ни себя, ни почту не жалея, писал, писал Сергей Геннадиевич письма и прокламации, дюжинами отправлял, и чертовыми дюжинами: знакомым, полузнакомым, вовсе незнакомым. Послушайте, мол, у нас тут такой суп варится – всей Европе не расхлебать, но и вы, «гой, ребята», не спите, приступайте к активным действиям. Одному поручал одно, другому – другое: опасное и полуопасное, нелегальное и полулегальное. И прекрасно сознавал, что не все, отнюдь не все откликнутся на его призывы. Пусть, не в этом гвоздь.
В Петербурге, на почтамте, в черном кабинете семь потов спустили, вылавливая женевские конверты и пакеты. Без малого шестьсот выловили. Вообразите на минуту физиономии перлюстраторов, тех, что протирали штаны на Почтамтской, в черном кабинете:
Получил ли ты хоть одно из моих писем? Если получил, что тебе мешает ответить: подлость или трусость? Ни того, ни другого пока не предполагаю. Но это молчание тоже необъяснимо. Во всяком случае отвечай на вопросы, поставленные категорически. Переделался ли ты в буржуа или в тебе уцелели свежие силы, годные для настоящего, бесфразного дела? Если есть еще эти силы, если русская жизнь душит тебя, как и всех нас, если ты еще не вошел в сок и смак бесхарактерного скептицизма на сытое брюхо, если, одним словом, ты еще можешь отозваться на дело, не начиная его сам, то отзовись – nopa! Время фразы кончилось – наступает время дела; нечего ждать почина авторитетных умников; на них надежда плоха. Надо, брат, полагаться на свои силы, на силы бесприютного, голодного люда. Скоро кризис в России; гораздо сильнее того, что был при объявлении воли обманутому царем народу; или опять наши умники, красноречиво глаголющие и пишущие, остановятся на словах и не бросятся возглавить народные толпы; или опять мужицкая кровь даром и безобразные, неорганизованные, многочисленные массы будут усмирены картечью? Срам!.. Народ восстает и борется, а цивилизованная сволочь, изучающая права человека, остается безгласной и безучастной к делу мужика. Пора, брат, за дело, за настоящее, практическое дело. Если сумеешь, то собери деньжонки, сколько можешь, здесь они нужны. В России еще не перевелся класс благодушно-либеральных личностей, которые для известного дела если пожалеют шкуру, то не пожалеют кошелька.
Конечно, и такое письмо доставляли по адресу. Да только адресат-то сразу оказывался под неотступным наблюдением. А то и попадал в казенный дом. Олухи царя небесного, ведь Сергею-то Геннадиевичу подчас только это и надо было: ну-ну, лимончик, посиди-ка под замком, за решеткою, авось и выпечется из тебя революционер истинный.
* * *
Из Женевы Нечаев поехал в Москву.
Был август. Приспел яблочный спас. Над городом мягко светилось белое облако. В библейский день преображения из белого облака раздался глас повелительный: «Его слушайте!»
Патриархи – Бакунин и Огарев – благословили Нечаева. Витал над ним женевский глас: «Его слушайте!»
(Прощаясь, Бакунин обнял Нечаева: «Вот какие люди-то в России, а?» Огарев салютовал пенковой трубкой. У Нечаева был мандат: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза». Мандат, подписанный Бакуниным. И была у Нечаева тетрадь: «Катехизис революционера». Тетрадь, начатая еще в Питере, законченная в Женеве. Нечаев был готов к созданию «Народной расправы». За его спиной неслышной поступью шли высыхающие мальчики. Время фразы кончилось, наступило время дела.)
С торжища у Сухаревой башни веяло антоновкой. И антоновкой веяло из садов и погребов Первой Мещанской. В мезонине у четы Успенских угощали Нечаева яблоками. Он надкусывал с хрустом, белый сок вскипал.
Ничего не скажешь, красивая парочка. Этот хоть сейчас на картину: «Ушкуйник». Или «Опричник». А Шурочка… Мимоездом, прошлой зимой, при первом знакомстве она показалась Нечаеву дурнушкой. А нынче-то разглядел! Лоб высок и чист, темные волосы густы и чуть вьются, нос тонок и прям, вся дышит отвагой. Ничего не скажешь, хороша. И можно было б позавидовать супругу, когда бы супруга-то не того-с, не брюхата. Наше дело прямое, страшное, беспощадное, а в этом чистеньком мезонинчике, где патриархально пахнет антоновкой, не сегодня завтра: «агу-агу».
На Успенского, приказчика книжного магазина, пристанище радикалов, Нечаев ставил свою первую московскую карту. Почин был дорог. И Нечаев встревожился, как бы Успенский не попятился.
Опасения усилились, мешаясь с желчью, когда тот не согласился с формулой: любить народ – значит водить народ под картечь. И не очень-то склонялся признать, что розы социализма расцветают, лишь орошенные кровью… Но вот глянул просвет в тучах: давно пора, полагал Успенский, давно пора упразднить словесный гомон в кружках саморазвития да и шагнуть широко в прямое дело. А прямое дело – вот оно, желанное! – прямое дело, поддакнул Успенский, в революционном заговоре.
Лицо Нечаева приняло отрешенное и жесткое выражение, он показал мандат: «Податель сего…» Объяснил кратко, но значительно: Всемирный союз есть не что иное, как Интернационал, Международное товарищество рабочих; русский отдел возглавляет Бакунин, а Нечаев уполномочен действовать в пределах империи. Успенский порывисто поднялся, Шурочка, притаив дыхание, смотрела на Нечаева.
– Теперь это, – сказал Нечаев. И медленно выпростал из внутреннего кармана тетрадочку. – Писано Михаилом Александровичем Бакуниным. Потом зашифровано. Называется: «Катехизис революционера». – Он осторожно опустил тетрадь на стол, прикрыл ладонью с растопыренными пальцами, нахмурился и стал отчетливо, как диктуя, произносить заповеди: если ты революционер, рви со всем образованным миром, с его нравственностью и условностями; если ты революционер, подави в себе все чувства родства и дружбы, не признавай ничего, кроме холодной страсти к нашему общему делу; если ты революционер не совсем посвященный, то есть второго и третьего разряда, гляди на себя как на часть капитала, отданного в безотчетное распоряжение революционера первого разряда; если ты революционер, соединись с диким разбойным миром, зубодробительной силой всероссийского мятежа…
Успенский выслушал стоя, как гимн. Нечаев понял: промаха нет. И не дрогнул, услышав:
– Обдумать надо. У меня, Сергей Геннадьич, правило: ежели приму в принципе, тогда уж хоть каленым железом.