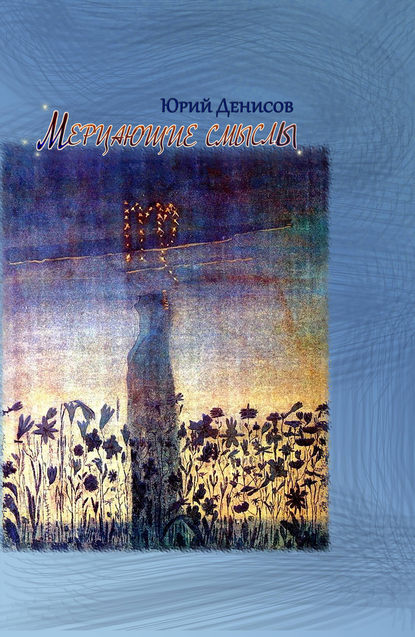По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мерцающие смыслы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вам плохо?
Мой вопрос повисает в страшноватой безответности, и я спрашиваю уже намного громче:
– Вам плохо?
И тут приоткрылись мутноватые голубые глазки, и я услышал сонный, слабый, но внятный голос:
– Нам хорошо.
Затянувшаяся зрелость
Ноябрь. Аллея оголённых почерневших дерев. Низкие тяжёлые облака. В парке сумрачно и дождливо. Высокий, прямой и крепкий седой мужчина, которому месяц тому назад исполнилось девяносто два года, остановившись, смотрит на эту унылую картину и, обращаясь к своему спутнику, с глубокой грустью признаётся: «Ты знаешь, я чувствую, что скоро уже надвинется старость».
Последний вокзальчик
Закоченелым мартовским вечером шёл я в больницу проведать умирающего. Передо мной темнела бугристая тропинка, а вокруг стыл пустынный разор заброшенной, присыпанной снегом стройки. Из земли торчали железобетонные обломки. Цементомешалки и ещё какие-то железные чудища цепенели в своём промороженном сне. У больничных стен валялись доски, запаршивевшие от сероватой смерзшейся грязи. Окна светились: за стеклами казённо звякали по казённым тарелкам алюминиевые ложки. В этом унылом позвякиванье слышалась непоправимая убогость.
Я вошёл. В раздевалке сгрудились поникшие пальто, безликие и безжизненные. По коридорам вяло слонялись одиночные больничные пижамы. Около десятка таких собралось перед телевизором. Они не сводили глаз с экрана: то было окно в недоступный рай. Мимо меня осторожно прошёл старик, бережно неся стакан горячей воды.
Вся больница привычно томилась в бессрочном ожидании, словно забытый в провинции вокзальчик, где поезда проходят изредка и непредсказуемо.
Мне думалось: «И такая вот бедненькая скука – всего лишь за какой-нибудь час, а, может, и за миг до исчезновения навсегда! И такой убогонький быт – всего лишь за один шаг до непоправимого, непостижимого, нескончаемого небытия!»
Стариковский визит
Один пенсионер собирался навестить своего сослуживца, ещё более старого, чем он сам. Год собирался, три собирался, а на двенадцатый выбрался.
Заходит в комнату и видит: лежит его приятель на высокой постели, под одеялами, на огромной подушке. На приветствие ни ухом не повёл, ни глазом.
– Ослеп и почти совсем оглох, – пояснила невестка хозяина.
«Э, да ты, брат, совсем никудышный, – про себя огорчился гость и осторожно, но неодолимо порадовался: «А я-то ещё ничего!»
И стал кричать в заросшее волосом ухо больного:
– Здравствуй, Кузьма Кузьмич! Это я, Никифор Никитович!
– Кто-кто? – обеспокоенно спросил лежачий старик.
– Я, я, Никифор Никитович! Помнишь, экономист?
Как ни бился гость, хозяин так и не понял, кто к нему пришёл и что говорит. Время от времени он дипломатично вставлял «Ну-ну» или «Вот-вот». Гость кричал во всю ивановскую, а хозяин едва-едва выговаривал свои немногие слоги. Ладно, потолковали так, и «ещёничегошный» пенсионер, эхая, да покряхтывая, ушёл. И больше не звонил.
А месяца через полтора «никудышний» старичок приказал долго жить. Сей наказ энергичная невестка покойного сообщила телеграммой и Никифору Никитовичу.
И вот вручают невестке её же телеграмму с надписью от руки: «Возвращаем по причине смерти адресата».
Памяти дедушки
Это не минет никого. Тогда в нашей семье на очереди был дедушка. Последние два-три года он становился всё молчаливей, кротче, невесомей.
Поздним октябрьским вечером всех нас переполошил непрерывно долгий телефонный звонок. Звонила из Хорола моя тетушка: «Дед совсем плох. Приезжайте скорей, может, хоть проститься успеете!»
Через два часа мы с отцом уже слидели рядом в автобусе. Ехали молча, тупо глядя в тёмные и мокрые стекла. Как много лет, с дошкольного детства, ездил я в Хорол на лето, и всегда с предвкушением беззаботности. А теперь…
Тогда, в детстве, мы с дедушкой были несколько прохладны друг к другу. Обычно я только со стороны наблюдал, как его фигурка исчезает и появляется за яблонями на огороде, который был одновременно и садом. Старичок, не спеша, с наслаждением обходил свою крохотную усадьбу, то поднимая голову, чтобы осмотреть дерево, то нагибаясь и разглядывая картофельную ботву, словно внимательный доктор. В саду дедушка меня не замечал, а вот когда я глазел на его возню с неисправным примусом, старик отводил взгляд и сердито сопел. Только теперь понимаю, что починка была для него делом интимно-творческим.
В темноте, по осенней грязи добрались мы с отцом до дедовской хаты. В ставне слабо светились щели. Я, сам не зная почему, заглянул в одну и увидел безлюдную комнату с одиноко горевшей лампочкой.
Мы вошли в дом с тем безмолвным благоговением, с каким входят в склеп. Шёпотом поздоровались, и тетя Фрося провела нас туда, где лежал дедушка. Он лежал без сознания. Его маленькое тело едва дышало, а бессмысленные жуткие глаза странно подрагивали, готовые вот-вот закатиться.
Бабушка спала на своей кровати. Лет десять тому назад ревматизм так покорёжил ей руки и ноги, что она и стоять уже не могла. Вскоре бабушка ослепла и больше не поднималась. Сейчас она тяжко постанывала во сне и тихо, но внятно звала: «Федя! Федя!» Будить её мы не стали. Отец сел у дедушкиных ног, я – у изголовья. По лицу старика тенями проходили муки.
Стоя рядом, тетя Фрося зашептала: «С неделю назад что-то он совсем сдал: руки трясутся, кашляет страшно, а курит, курит как!.. Кричу на него: «Дед, бросай, если жить хочешь»! – а он отмалчивается, а сам то и дело хватается за папиросы, и давай дымить…»
Мне это было очень понятно: ну, можно протянуть ещё с полгода, отказывая себе в единственно возможном наслаждении… Но не лучше ли прожить пусть даже лишь месяц, да зато всласть? Вместе с ядовитым «беломорным» дымом он наполнял лёгкие воздухом жизни.
Один я не порицал старика за курение. Более того, сам изредка просил у него папироску, летним вечером пристроившись рядом с ним на жарком крылечке. Мы давно уже полюбили друг друга, дед и его взрослый внук, такие разные, но родные и одинаково смертные. Я радовался мирной нежности, с какой он встречал меня, обнимая и неловко целуя в щеку. Неспешно покуривая вечерами на пороге, мы не произносили ни слова. Дедушка никогда ни в чём меня не наставлял, может, по неумению выразить свою мысль, а может, чувствуя, что никакой опыт всё равно не спасёт от умирания. Поэтому мы курили молча. В нескольких шагах от дома начинался склон огромного оврага, заполненного огородами и садами. Днём с порога можно было увидеть там крошечную речушку и высокие старые вербы. Вечерами овраг быстро заливала тьма, и он шелестел невидимой листвой, как живая бездна. На той стороне оврага уютно желтели окна домов и хат. Дедушка неотрывно смотрел на закат. Сначала яркое и высокое пылание облаков тускнело, превращаясь в красноватое марево, а затем – в тускло голубое свечение. Всё, происходившее в закатном небе, отражалось в стариковских глазах, бесцветно-прозрачных и живых, как вода. Откуда-то из-за горизонта доносились чуть слышные зовы поездов, и эти звуки, преображённые далью, были прекрасны.
Очнулся я от слов тети Фроси: «Пошёл вчера на кухню покурить. Минуту посидел, подымил и тут отложил папиросу, схватился за грудь и упал. Я перенесла его на кровать, вызвала скорую. Врач осмотрел деда: «Сколько ему? Семьдесят три? Ну, нам тут уже делать нечего».
Я слушал, не сводя глаз с дедовских рук, лежавших поверх одеяла. Они совсем высохли – лёгкие кости, обтянутые лёгкой сухой кожей. Только пристально вглядевшись, я заметил, что грудь ещё дышала. Нет, вряд ли дедушка дотянет до утра! Горькой была и другая мысль: а вдруг он уже не придёт в сознание, и я не смогу с ним проститься, не смогу сказать, что люблю его и никогда любить не перестану. Я наклонился и стал негромко, настойчиво звать: «Дедушка! Это Юра! Дедушка!» И наступил миг, когда его глаза осмыслились. И тут же закрылись. Дедушка не произнёс ни слова. Но меня он узнал. Руки его начали медленно, медленно подниматься, колеблясь, словно водоросли из невообразимых глубин. Они обняли меня, сомкнулись за моей спиной и нежно, едва ощутимо сжали. Вся напрасность жизни, весь ужас живого существа перед исчезновением, вся любовь и все сострадание неведомых предков к неведомым потомкам прошли сквозь мою плоть. Я положил голову на стариковскую грудь, родную до муки, и сквозь слезы почувствовал, что он перестал дышать, и увидел, как его лицо приобрело выражение свободного покоя.
Уже через полчаса в комнате распоряжались какие-то старухи в чёрном.
Теперь я не могу вспомнить, спал или не спал я той ночью. Знаю только, что утром пошёл взглянуть на покойного. Его уже положили в гроб, возникший на столе посреди комнаты. Ставни были закрыты, горело несколько свечей, освещавших лицо, ставшее жёстким и чужим. Неужели это он был молодым гармонистом и заядлым танцором, которому рада была каждая свадьба? Неужели это он сидел рядом со мной на крыльце и глядел на закат?
Не было мочи оставаться на поминки среди похоронного воронья, и под каким-то предлогом я спешно уехал.
Ровно через год мы с отцом вернулись в Хорол навестить дедушкину могилу. Оказалась она на самом краю затянутого туманом деревенского кладбища – небольшой покрытый дёрном холмик тихо дремал в осенней сырости. Что за человек здесь похоронен, знали только мы, да наша родня. А вместе с нами исчезнет и память о дедушке, исчезнет само его имя – Фёдор Михайлович Денисов.
Я и отец, уже почти старик, стояли у дедовской могилы и плакали.
Ничего из дедушкиных вещей я себе не взял. У меня остались его снимки. Я ведь фотографировал дедушку множество раз, пытаясь передать то ли бессловесную мудрость, то ли несказанную пустоту стариковских глаз. А ещё в день его смерти я нашёл и спрятал ту папироску в мундштуке, которую дедушка не успел докурить.
Магнетизм земли
Более четверти столетия прошло с тех пор, как мы с другом стояли на этом самом месте. Мы оба уже поседе ли, а здесь ничего не изменилось – та же небольшая уще листая долина, греющая свои склоны под октябрьским солнцем. В глубине её ровно и неуклонно течёт и течёт тёмная речка. Нет в ней ни равнинной лени, ни горной ярости.
То один, то другой охряный листок кривобоко качается в голубом воздухе и, словно подстреленный, болезненны ми рывками снижается к плывучей воде, касается её и вот уже успокоенно и безвольно скользит к Чёрному морю.
Речку зовут по-домашнему – Уша. Над ней уступами возлежат бегемотоподобные глыбы – то ли побуревшие граниты, то ли базальты – дремотно грозные посланцы огромнейшего скалистого массива, уходящего глубокоглубоко, к самому ядру земного шара. Это головокружительные миллионы лет геологической древности. И что для бесформенного преджизненного Архея наши Флора и Фауна? Не более, чем взявшиеся за руки трёхлетние шалуньи.
Противоположный берег так высок и обрывист, что редеющий лес не решается подойти к его краю. Некогда там буйствовали ночами языческие костры и грубо перекрикивались дружинники княгини Ольги. Здесь была отчизна древлян, земля, породившая деревья, деревни и само понятие древности.
Этот скалистый уголок, уютный и вместе с тем потаённо могучий, существует среди современности, не обращая на неё ни малейшего внимания. Пусть грохочут через железнодорожный мост тяжеленные составы – каменный массив и не дрогнет, а Уша ничуть не ускорит и ничуть не замедлит течения.
Ещё незакосневшие сердца неисповедимо влекутся сюда. Казалось бы, разве не уютней беседовать в домашних стенах? Разве не приятней прогуляться по городскому парку? Но нет! Здесь, как нигде, тихо насыщается душа.