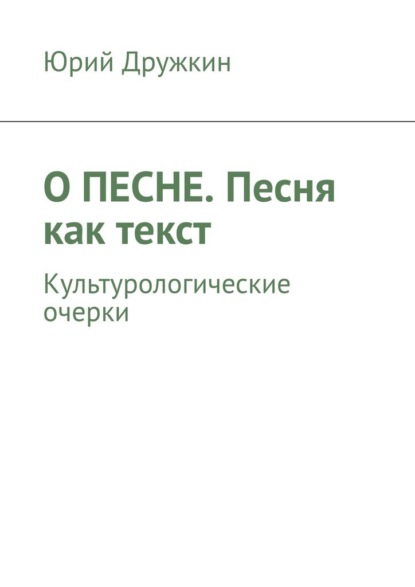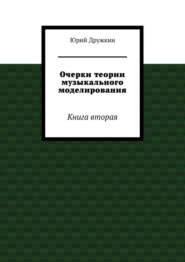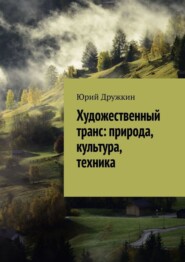По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О песне. Песня как текст. Культурологические очерки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ехал я из Берлина», (Муз. И. Дунаевского, сл. Л. Ошанина).[21 - https://www.culture.ru/poems/33165/ekhal-ya-iz-berlina?ysclid=ln6gtsldp8251250887]
Эти песни являются прямым ответом на расколотость хронотопа военных песен, актом возвращения того, что было отчуждено и воссоединения того, что было разделено. К ним относятся и такие, как «Вернулся я на родину» (муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского, 1946,), «Где же вы теперь, друзья-однополчане» (муз. В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянов, 1947 г.). Последняя интересно еще и тем, что она соединяет ценности мирной жизни с ценностями военного времени (однополчане, воинское братство).
Послевоенное восстановление страны означало и восстановление мироощущения, восстановление хронотопа. Потому-то и стали вновь появляться песни «обнимающие» просторы Родины, где она предстает как огромное могучее целое. Сюда относятся и уже названные выше «паровозные» песни И. Дунаевского: «Пути-дороги» на слова С. Алымова (1946 г), «Дорожная» на слова С. Васильева (1949 г), «Московские огни» на слова М. Матусовского (1950 г.), «Утренняя песня» (из кинофильма «Веселые звезды») на слова М. Матусовского, «В Москву» на слова В. Лебедева-Кумача, «Пишите нам, подруги» на слова М. Матусовского (1954 г.). Как мы понимаем, не только мчащийся поезд создает необходимый собирающий жест. Это может быть движение по воде: «Домой, домой! Над бухтой чайка вьется, опять волна вскипает за кормой» («Домой, домой» (муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского, 1954 г.). Это, конечно же, может быть полет:
«Летите голуби». (Муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского)[22 - https://darktexts.ru/11882-isaak-dunaevskij-letite-golubi.html]
Здесь не только полностью восстанавливается гармоническая целостность хронотопа советской классической песни, но появляется и нечто новое. Пространство мира и света не ограничивается уже просторами страны, а стремится за ее пределы, обретает глобальность. Так что было бы неверным сводить все важнейшие процессы, происходящие с песней (и ее хронотопом) в послевоенные годы лишь к восстановлению довоенного мироощущения. О полном и буквальном восстановлении речи быть не может, ибо опыт войны имел огромное значение, исчезнуть бесследно он не мог. После войны происходило и восстановление разрушенного войной песенного мира, и зарождение совершенно новых процессов. Но это уже совсем другая история.
* * * * *
До сих пор мы рассматривали связь хронотопа прежде всего со словами песни. Теперь попробуем обратить более пристальное внимание на музыкальную ее составляющую, хотя и словесный текст не будем упускать из виду.
Музыка песни, сколь бы простой она ни казалась, в исследовательском плане является предметом весьма сложным. Попробуем хотя бы кратко эту сложность охарактеризовать.
Для начала договоримся, что музыка – и мы не должны от нее этого ожидать – не призвана дублировать смысл слов. Она может дополнять, оттенять, поддерживать, открывать какие-то неожиданные грани… В конце концов, она может выступать в оппозиции к смыслу слов. Как бы выступать неким анти-тезисом. И создавать на этой основе что-то качественный новое.
Кроме этой смыслообразующей функции у музыки есть и другая функция, не менее важная. Я бы ее назвал так: обеспечение процесса передачи и присвоения смысла. То есть, текст (хотя и не только он) передает смысл, а музыка создает ряд условий, при которых этот смысл полнее усваивается. Во-первых, происходит энергетизация слова и расстановка эмоциональных акцентов. Второй очень важный момент – это структурирование текста. Дело в том, что у музыки тоже есть своего рода синтаксис – музыкальный. Музыкальная линия по-своему членит тот отрезок времени, на котором живет песня. Но членит его не так как словесный текст, а по несколько иным принципам. Здесь и деление на части и иные отношения – субординация, координация и пр. Иногда результаты членения (словесного и музыкального) совпадают, а иногда не совпадают. Возникает некий аналог «второй грамматики». Текст попадает в эту музыкально-грамматическую среду, которая расставляет иные акценты, порождая второй смысл.
Теперь еще один очень важный момент. Музыка выступает чем-то вроде «фермента», то есть «катализатора», который усиливает, ускоряет процесс взаимодействия слова (смысла текста) и человека. Как можно усилить химическую реакцию? Можно подогреть раствор, тогда она будет быстрее идти. А можно добавить катализатор, она тоже будет быстрее идти. Подогревание, мне кажется, можно сравнить с тем, что песня, как правило, живет в человеческом сообществе. Способ песенного действия и служит этим «подогревом». Когда я в одиночестве слушаю песню, все-таки она не так глубоко и полно мною осваивается, как если бы я слушал ее в определенной группе людей… А тем более, если мы ее вместе поем.
А фермент, катализатор – это сама музыка. Есть целый ряд авторов, на чье мнение я сошлюсь в связи с этим. Это, во-первых, Выготский «Психология искусства», который в свою очередь ссылается на Льва Николаевича Толстого. На его рассуждения по поводу «Крейцеровой сонаты», где он пишет, что музыка – «великая и страшная сила», ибо она не к чему-то зовет конкретному… Она может быть и не к чему и не зовет, но она высвобождает те скрытые в подсознании энергии, которые до того момента дремлют. А музыка их выпускает наружу и они начинают действовать в нас». И в этом, собственно, состоит функция катализатора.
А если говорить о смысле, который передает музыка, то я бы здесь выделил три основных аспекта. Схематически, а значит упрощенно. Это, во-первых, миметический (от греческого слова «мимесис» – подражание). Музыка, как и все другие виды искусства, чему-то и как-то подражает, хотя это быть может и не столь очевидно, как в иных случаях. Объекты подражания – это звуки природы (живой и мертвой), это физическое движение, это интонации человеческой речи, это человеческий жест, это, собственно говоря, и некоторая внутренняя динамика души, движение эмоций и так далее. Это то, что музыка может как бы моделировать, воспроизводить, рисовать… И мы это воспринимаем осознанно или неосознанно, каким-то образом вступаем в резонанс и тоже начинаем переживать те процессы, образы которых музыка нам несет.
Второй момент – знаковый. Его в каком-то смысле проще отслеживать. Это – наделение интонации каким-то дополнительным ассоциативным смыслом, который не связан с самой интонацией каким-либо существенным подобием. Например, так называемые жанровые признаки. Если мы слышим звуки колыбельной, то это для нас помимо прочего знак некоторых ситуаций, где колыбельная может звучать. (Хотя, с другой стороны, есть основания говорить о том, что темпо-ритм и мелодический рисунок колыбельной подражают усыпляющим интонациям убаюкивания и ритмичным движениям укачивания). А если мы, например, в опере «Иван Сусанин» слышим мазурку, то также понимаем, про что речь. В данном случае это работает как знак. Есть много случаев, когда композитор специально пользуется такого рода знаками. Например, в увертюре П. И. Чайковского «1812 год» звучит и «Марсельеза» и «Боже, царя храни» и ряд других известных мотивов, которые в контексте сразу выстраивают определенную смысловую систему.
На основе этих двух аспектов вырастает естественным образом третий аспект – символический, который складывается постепенно. Происходит медленный отбор интонаций, обладающих каким-то естественным семантическим фоном и закрепление за ними уже более конкретного (знакового) смысла. Здесь таким образом соединяются и элемент подобия, и элемент условности, конвенциональности. Здесь возникает и некий рациональный момент (потому что композиторы могут этим сознательно пользоваться, а слушатели, которые в теме, это очень хорошо улавливают, понимают…) и, вместе с тем, момент иррациональный, эмоциональный, бессознательный.
Борис Асафьев, который в свое время ввел в оборот понятие «интонационный словарь эпохи», исходил из того, что музыка – это искусство интонируемого смысла, что главными элементами, несущими для нас этот смысл, являются интонации. Интонацию, вообще говоря, он строго не определил. У нас, в частности, нет четкого алгоритма, как эти интонации вычленять, поэтому интонацией можно считать все, что угодно – и ритмический рисунок, и гармоническую последовательность, и мелодический оборот… Асафьев здесь не оставил даже намека на формализацию. Но он запустил слово. Очень искусительное такое слово – «словарь». И нам, конечно, хочется заполучить этот самый словарь. Ведь, если есть словарь эпохи, то давайте этот словарь составим. Однако сделать это бесконечно сложно.
У него был не менее великий, хотя и менее известный для широкого круга людей единомышленник – Болеслав Леопольдович Яворский. И вот он-то как раз известен, помимо прочего, попыткой сконструировать этот самый интонационный словарь. Он обращался к музыке Баха и, прежде всего к такому его сочинению, как «Хорошо темперированный клавир» и доказывал на основе своих исследований, что это не просто программное произведение, а настоящая «энциклопедия смыслов», в том числе и нравственных смыслов той эпохи и того круга людей, среди которых жил Бах. Здесь Яворский действительно мог опираться на такой интересный сюжет, который связывает с эпохой Баха и последующей эпохой времена гораздо более ранние, восходящие к так называемому грегорианскому хоралу и еще раньше.
Кратко этот процесс можно описать так. Католическая церковь совершает регулярные богослужения и для этого использует какую-то музыку, которая ограничена определенными стилистическими рамками. Это должна быть одноголосная мелодия, без лишних скачков, без каких-то ритмических сложностей… Такая музыкальная аскетика. Церковные музыканты этот словарь черпали прежде всего из фольклора. Какого фольклора? Европейского? Такого общеевропейского фольклора не существует. Есть итальянский, есть французский, Есть немецкий… А по сути, действуют местные границы, локальная привязка фольклорной традиции еще более узкая. Но существовал, наверно, какой-то фильтр, который позволял из этого разнообразия впитывать только те интонации, которые «подходили». То был, так сказать, фильтр номер один.
Был и фильтр номер два. В шестом веке папа Григорий великий предпринял определенные усилия по организации всего этого множества. Были собраны и канонизированы те интонации, те попевки, те музыкальные элементы, которые естественным образом откристаллизовывались. То есть они уже и раньше стихийно отбирались, а здесь они отфильтровывались и откристаллизовывались, так сказать, по второму разу. И возник так называемый григорианский хорал. Это была долгая традиция, действовавшая по всей Европе. Одни и те же интонации постепенно закреплялись примерно за одним и тем же кругом смыслов. Этот круг смыслов постепенно становился все уже, все конкретнее, достигая почти знакового уровня определенности.
На этой основе в свое время выработался протестантский хорал. Протестантский хорал был той естественной средой, где «варилось» творчество Баха. В данной культуре этот «интонационный словарь» был в действительности очень близок тому, что мы вкладываем в это понятие. Те люди, которые это исполняли и те, которые слушали, очень хорошо понимали смысл определенных интонаций. Они, можно сказать, знали «про что» это. Даже, если это и недостаточно выразительно исполнялось, люди знали данный ход и понимали его значение. Это был действующий словарь, что особенно важно. Для Баха это был тоже действующий словарь и он его реально использовал. Не только в кантатах, не только в страстях, но и в инструментальной музыке.
Другое дело, что этот словарь начал постепенно изменяться. Прежде всего, музыка Баха долгое время была в забвении. Ее заново открыл для Европы и для всего мира Мендельсон. Это был 19 век, эпоха романтизма. Надо понимать, что в музыке Баха в эту эпоху и публику, и музыкантов привлекало нечто иное. И когда ее слушали, интересовались не столько этими конкретными смыслами, сколько музыкальной красотой, общим эмоциональным строем, музыкальной логикой и т. д. Тем, что восхищало, поражало воображение, на чем можно было строить музыкальный язык и двинуть его развитие дальше…
Можно ли сказать, что символы эти были забыты? Забыты в каком смысле? В том смысле, что соответствующие формы стали мертвыми? Забытые – значит ли мертвые? Или человеческая культура в чем-то подобна человеческой психике, где есть память оперативная, а есть и долговременная? И есть нечто, что для нас не актуально, непонятно, о чем мы можем и не подозревать, но в некоторый момент оно вдруг просыпается?
Обращаясь к этой теме, мы наталкиваемся на множество сложных вопросов. Какое это может иметь отношение к современному исполнительскому искусству? Как это относится к современному слушательскому процессу? И относится ли вообще как-нибудь? Работают ли эти символы? Ведь и простой человек и профессионал могут этим просто не интересоваться. А вот современная песня – она каким-то образом соотносится с этими вещами? С этим словарем? Сказать, что никак не соотносится потому что, во-первых, это было давно, и во-вторых, что это было далеко от России тоже не верно. Есть здесь общая подоснова – фольклор, у которого есть универсальные корни.
И как с этим может соотноситься современное композиторское творчество?
Против исследования на эту тему сразу возникают предварительные возражения. Ведь для того, чтобы такой словарь сложился, нужны условия. В частности, длительное эволюционное развитие. В России же с этим были проблемы. И нужен, конечно, некий ограниченный тематический круг, ограниченный интонационный состав, чтобы все сложилась, высокая степень канонизации и постоянная включенность в ритуальную или бытовую практику… И все же имеются факты, на которые стоит обратить внимание.
Давайте мысленно перенесемся в наше отечественное «бардовское» движение. В нем были представители разных профессий, в том числе и музыковеды. Один такой профессиональный музыковед – Владимир Фрумкин, написавший статью, которую представители движения хорошо знают. Статья называется «Откуда прилетел голубой шарик?». Речь идет о песне Булата Окуджавы «Девочка плачет – шарик улетел». Автор стоит на принципиальных позициях: авторская песня кажется простой, а на самом деле это сложный объект, вполне достойный профессионального музыковедческого интереса. И вот он со своим музыковедческим, скрупулезным подходом решил поработать с данной песней.
Первое, что он обнаружил, это то, что внутри данной песни «запрятан» мотив, который впрямую относится к тому самому интонационному словарю, которым занимался Яворский. Правда, это мотив особого рода. Он неоднократно использовался в творчестве многих композиторов – Моцарта, Верди, Рахманинова, Листа, Берлиоза и других. Это так называемый «Dies irae» («День гнева»): «Этот день превратит века в пепел».
По сути, именно первые восемь нот данного примера являются тем самым прочно вошедшим в культуру и почти всегда узнаваемым музыкальным символом. Собственно, этот мотив и имеет в виду Фрумкин.
Заметим, что к нашему более общему разговору о хронотопе это также имеет прямое отношение; ведь представление о конце света также включает в себя определенный хронотоп. Это – особая картина мира, где пространство и время занимают очень важное место.
Вот как об этом пишет автор статьи:
«Мелодия песни необычно сдержана и лаконична. Вырастает она из краткого, плавно восходящего мотива, который трижды повторяется, но каждый раз – на ступеньку ниже. Этот восходящий мотив из двух звуков и его нисходящие повторения отчетливо слышны, если сосредоточиться на главных, опорных звуках мелодии. ..
Для читателя-немузыканта: опорными становятся те звуки мелодии, которые попадают на сильные доли такта. Они слышнее, весомее других и поэтому образуют основу мелодии, ее каркас. Линия опорных звуков этой песни впечатляет четкостью структуры и упрямой логикой движения – плавными уступами, неуклонно – все ниже и ниже. Интересно и другое: в этом виде мелодия «Голубого шарика» обнаруживает явное родство с одним из мотивов, сложившихся в музыке XVI—XVIII веков, в эпоху барокко, породившей таких гигантов, как Бах, Гендель, Пёрселл, Вивальди. Вспомним один из инструментальных шедевров Генделя – «Пассакалию» из Седьмой сюиты для клавесина. Она написана в форме темы с вариациями. Опорные звуки темы – абсолютно те же, что и в «Песенке о голубом шарике»![23 - Владимир Фрумкин. Откуда прилетел голубой шарик. «Семь искусств», №6 (43) – июнь, https://7iskusstv.com/2013/Nomer6/Frumkin1.php]
Простая последовательность звуков представляет собой важнейший культурный символ. Фрумкин убежден, что этот мотив, примененный здесь Окуджавой, быть может и несознательно, тем не менее работает. Он создает дополнительный, теневой смысл, который мы не сознаем. Но этот теневой смысл как бы комментирует смысл, передаваемый словесным текстом. В свою очередь, словесный текст комментирует смысл, данного теневого музыкального символа. Символ комментирует текст песни, а текст песни комментирует символ. В этой статье Фрумкина есть две идеи, имеющие для нас особое значение. Первая идея состоит в том, что кажущаяся простой песня является на самом деле весьма сложно организованной смысловой системой. И потому представляет большой интерес для научного исследования. И второе – практика показывает, что какими-то ветрами эти элементы достаточно древнего интонационного словаря все-таки сюда проникают.
И обнаруживается это не только на примере песни «Девочка плачет». Возьмем известную песню «Дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина).[24 - https://possum.ru/?p=10241&ysclid=lmynj2aenc640278244]
При внимательном рассмотрении легко обнаруживаем «следы» «Dies irae».
На верхней строчке у нас расположена мелодия песни, а на нижней – опорные звуки. В качестве таковых взяты те, что приходятся на сильную долю такта. С одним лишь исключением – в пятом такте мы выделили звук фа, который, хотя и не приходится на сильную долю, зато повторяется дважды, что, согласитесь, также является средством подчеркивания.
Эти песни являются прямым ответом на расколотость хронотопа военных песен, актом возвращения того, что было отчуждено и воссоединения того, что было разделено. К ним относятся и такие, как «Вернулся я на родину» (муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского, 1946,), «Где же вы теперь, друзья-однополчане» (муз. В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянов, 1947 г.). Последняя интересно еще и тем, что она соединяет ценности мирной жизни с ценностями военного времени (однополчане, воинское братство).
Послевоенное восстановление страны означало и восстановление мироощущения, восстановление хронотопа. Потому-то и стали вновь появляться песни «обнимающие» просторы Родины, где она предстает как огромное могучее целое. Сюда относятся и уже названные выше «паровозные» песни И. Дунаевского: «Пути-дороги» на слова С. Алымова (1946 г), «Дорожная» на слова С. Васильева (1949 г), «Московские огни» на слова М. Матусовского (1950 г.), «Утренняя песня» (из кинофильма «Веселые звезды») на слова М. Матусовского, «В Москву» на слова В. Лебедева-Кумача, «Пишите нам, подруги» на слова М. Матусовского (1954 г.). Как мы понимаем, не только мчащийся поезд создает необходимый собирающий жест. Это может быть движение по воде: «Домой, домой! Над бухтой чайка вьется, опять волна вскипает за кормой» («Домой, домой» (муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского, 1954 г.). Это, конечно же, может быть полет:
«Летите голуби». (Муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского)[22 - https://darktexts.ru/11882-isaak-dunaevskij-letite-golubi.html]
Здесь не только полностью восстанавливается гармоническая целостность хронотопа советской классической песни, но появляется и нечто новое. Пространство мира и света не ограничивается уже просторами страны, а стремится за ее пределы, обретает глобальность. Так что было бы неверным сводить все важнейшие процессы, происходящие с песней (и ее хронотопом) в послевоенные годы лишь к восстановлению довоенного мироощущения. О полном и буквальном восстановлении речи быть не может, ибо опыт войны имел огромное значение, исчезнуть бесследно он не мог. После войны происходило и восстановление разрушенного войной песенного мира, и зарождение совершенно новых процессов. Но это уже совсем другая история.
* * * * *
До сих пор мы рассматривали связь хронотопа прежде всего со словами песни. Теперь попробуем обратить более пристальное внимание на музыкальную ее составляющую, хотя и словесный текст не будем упускать из виду.
Музыка песни, сколь бы простой она ни казалась, в исследовательском плане является предметом весьма сложным. Попробуем хотя бы кратко эту сложность охарактеризовать.
Для начала договоримся, что музыка – и мы не должны от нее этого ожидать – не призвана дублировать смысл слов. Она может дополнять, оттенять, поддерживать, открывать какие-то неожиданные грани… В конце концов, она может выступать в оппозиции к смыслу слов. Как бы выступать неким анти-тезисом. И создавать на этой основе что-то качественный новое.
Кроме этой смыслообразующей функции у музыки есть и другая функция, не менее важная. Я бы ее назвал так: обеспечение процесса передачи и присвоения смысла. То есть, текст (хотя и не только он) передает смысл, а музыка создает ряд условий, при которых этот смысл полнее усваивается. Во-первых, происходит энергетизация слова и расстановка эмоциональных акцентов. Второй очень важный момент – это структурирование текста. Дело в том, что у музыки тоже есть своего рода синтаксис – музыкальный. Музыкальная линия по-своему членит тот отрезок времени, на котором живет песня. Но членит его не так как словесный текст, а по несколько иным принципам. Здесь и деление на части и иные отношения – субординация, координация и пр. Иногда результаты членения (словесного и музыкального) совпадают, а иногда не совпадают. Возникает некий аналог «второй грамматики». Текст попадает в эту музыкально-грамматическую среду, которая расставляет иные акценты, порождая второй смысл.
Теперь еще один очень важный момент. Музыка выступает чем-то вроде «фермента», то есть «катализатора», который усиливает, ускоряет процесс взаимодействия слова (смысла текста) и человека. Как можно усилить химическую реакцию? Можно подогреть раствор, тогда она будет быстрее идти. А можно добавить катализатор, она тоже будет быстрее идти. Подогревание, мне кажется, можно сравнить с тем, что песня, как правило, живет в человеческом сообществе. Способ песенного действия и служит этим «подогревом». Когда я в одиночестве слушаю песню, все-таки она не так глубоко и полно мною осваивается, как если бы я слушал ее в определенной группе людей… А тем более, если мы ее вместе поем.
А фермент, катализатор – это сама музыка. Есть целый ряд авторов, на чье мнение я сошлюсь в связи с этим. Это, во-первых, Выготский «Психология искусства», который в свою очередь ссылается на Льва Николаевича Толстого. На его рассуждения по поводу «Крейцеровой сонаты», где он пишет, что музыка – «великая и страшная сила», ибо она не к чему-то зовет конкретному… Она может быть и не к чему и не зовет, но она высвобождает те скрытые в подсознании энергии, которые до того момента дремлют. А музыка их выпускает наружу и они начинают действовать в нас». И в этом, собственно, состоит функция катализатора.
А если говорить о смысле, который передает музыка, то я бы здесь выделил три основных аспекта. Схематически, а значит упрощенно. Это, во-первых, миметический (от греческого слова «мимесис» – подражание). Музыка, как и все другие виды искусства, чему-то и как-то подражает, хотя это быть может и не столь очевидно, как в иных случаях. Объекты подражания – это звуки природы (живой и мертвой), это физическое движение, это интонации человеческой речи, это человеческий жест, это, собственно говоря, и некоторая внутренняя динамика души, движение эмоций и так далее. Это то, что музыка может как бы моделировать, воспроизводить, рисовать… И мы это воспринимаем осознанно или неосознанно, каким-то образом вступаем в резонанс и тоже начинаем переживать те процессы, образы которых музыка нам несет.
Второй момент – знаковый. Его в каком-то смысле проще отслеживать. Это – наделение интонации каким-то дополнительным ассоциативным смыслом, который не связан с самой интонацией каким-либо существенным подобием. Например, так называемые жанровые признаки. Если мы слышим звуки колыбельной, то это для нас помимо прочего знак некоторых ситуаций, где колыбельная может звучать. (Хотя, с другой стороны, есть основания говорить о том, что темпо-ритм и мелодический рисунок колыбельной подражают усыпляющим интонациям убаюкивания и ритмичным движениям укачивания). А если мы, например, в опере «Иван Сусанин» слышим мазурку, то также понимаем, про что речь. В данном случае это работает как знак. Есть много случаев, когда композитор специально пользуется такого рода знаками. Например, в увертюре П. И. Чайковского «1812 год» звучит и «Марсельеза» и «Боже, царя храни» и ряд других известных мотивов, которые в контексте сразу выстраивают определенную смысловую систему.
На основе этих двух аспектов вырастает естественным образом третий аспект – символический, который складывается постепенно. Происходит медленный отбор интонаций, обладающих каким-то естественным семантическим фоном и закрепление за ними уже более конкретного (знакового) смысла. Здесь таким образом соединяются и элемент подобия, и элемент условности, конвенциональности. Здесь возникает и некий рациональный момент (потому что композиторы могут этим сознательно пользоваться, а слушатели, которые в теме, это очень хорошо улавливают, понимают…) и, вместе с тем, момент иррациональный, эмоциональный, бессознательный.
Борис Асафьев, который в свое время ввел в оборот понятие «интонационный словарь эпохи», исходил из того, что музыка – это искусство интонируемого смысла, что главными элементами, несущими для нас этот смысл, являются интонации. Интонацию, вообще говоря, он строго не определил. У нас, в частности, нет четкого алгоритма, как эти интонации вычленять, поэтому интонацией можно считать все, что угодно – и ритмический рисунок, и гармоническую последовательность, и мелодический оборот… Асафьев здесь не оставил даже намека на формализацию. Но он запустил слово. Очень искусительное такое слово – «словарь». И нам, конечно, хочется заполучить этот самый словарь. Ведь, если есть словарь эпохи, то давайте этот словарь составим. Однако сделать это бесконечно сложно.
У него был не менее великий, хотя и менее известный для широкого круга людей единомышленник – Болеслав Леопольдович Яворский. И вот он-то как раз известен, помимо прочего, попыткой сконструировать этот самый интонационный словарь. Он обращался к музыке Баха и, прежде всего к такому его сочинению, как «Хорошо темперированный клавир» и доказывал на основе своих исследований, что это не просто программное произведение, а настоящая «энциклопедия смыслов», в том числе и нравственных смыслов той эпохи и того круга людей, среди которых жил Бах. Здесь Яворский действительно мог опираться на такой интересный сюжет, который связывает с эпохой Баха и последующей эпохой времена гораздо более ранние, восходящие к так называемому грегорианскому хоралу и еще раньше.
Кратко этот процесс можно описать так. Католическая церковь совершает регулярные богослужения и для этого использует какую-то музыку, которая ограничена определенными стилистическими рамками. Это должна быть одноголосная мелодия, без лишних скачков, без каких-то ритмических сложностей… Такая музыкальная аскетика. Церковные музыканты этот словарь черпали прежде всего из фольклора. Какого фольклора? Европейского? Такого общеевропейского фольклора не существует. Есть итальянский, есть французский, Есть немецкий… А по сути, действуют местные границы, локальная привязка фольклорной традиции еще более узкая. Но существовал, наверно, какой-то фильтр, который позволял из этого разнообразия впитывать только те интонации, которые «подходили». То был, так сказать, фильтр номер один.
Был и фильтр номер два. В шестом веке папа Григорий великий предпринял определенные усилия по организации всего этого множества. Были собраны и канонизированы те интонации, те попевки, те музыкальные элементы, которые естественным образом откристаллизовывались. То есть они уже и раньше стихийно отбирались, а здесь они отфильтровывались и откристаллизовывались, так сказать, по второму разу. И возник так называемый григорианский хорал. Это была долгая традиция, действовавшая по всей Европе. Одни и те же интонации постепенно закреплялись примерно за одним и тем же кругом смыслов. Этот круг смыслов постепенно становился все уже, все конкретнее, достигая почти знакового уровня определенности.
На этой основе в свое время выработался протестантский хорал. Протестантский хорал был той естественной средой, где «варилось» творчество Баха. В данной культуре этот «интонационный словарь» был в действительности очень близок тому, что мы вкладываем в это понятие. Те люди, которые это исполняли и те, которые слушали, очень хорошо понимали смысл определенных интонаций. Они, можно сказать, знали «про что» это. Даже, если это и недостаточно выразительно исполнялось, люди знали данный ход и понимали его значение. Это был действующий словарь, что особенно важно. Для Баха это был тоже действующий словарь и он его реально использовал. Не только в кантатах, не только в страстях, но и в инструментальной музыке.
Другое дело, что этот словарь начал постепенно изменяться. Прежде всего, музыка Баха долгое время была в забвении. Ее заново открыл для Европы и для всего мира Мендельсон. Это был 19 век, эпоха романтизма. Надо понимать, что в музыке Баха в эту эпоху и публику, и музыкантов привлекало нечто иное. И когда ее слушали, интересовались не столько этими конкретными смыслами, сколько музыкальной красотой, общим эмоциональным строем, музыкальной логикой и т. д. Тем, что восхищало, поражало воображение, на чем можно было строить музыкальный язык и двинуть его развитие дальше…
Можно ли сказать, что символы эти были забыты? Забыты в каком смысле? В том смысле, что соответствующие формы стали мертвыми? Забытые – значит ли мертвые? Или человеческая культура в чем-то подобна человеческой психике, где есть память оперативная, а есть и долговременная? И есть нечто, что для нас не актуально, непонятно, о чем мы можем и не подозревать, но в некоторый момент оно вдруг просыпается?
Обращаясь к этой теме, мы наталкиваемся на множество сложных вопросов. Какое это может иметь отношение к современному исполнительскому искусству? Как это относится к современному слушательскому процессу? И относится ли вообще как-нибудь? Работают ли эти символы? Ведь и простой человек и профессионал могут этим просто не интересоваться. А вот современная песня – она каким-то образом соотносится с этими вещами? С этим словарем? Сказать, что никак не соотносится потому что, во-первых, это было давно, и во-вторых, что это было далеко от России тоже не верно. Есть здесь общая подоснова – фольклор, у которого есть универсальные корни.
И как с этим может соотноситься современное композиторское творчество?
Против исследования на эту тему сразу возникают предварительные возражения. Ведь для того, чтобы такой словарь сложился, нужны условия. В частности, длительное эволюционное развитие. В России же с этим были проблемы. И нужен, конечно, некий ограниченный тематический круг, ограниченный интонационный состав, чтобы все сложилась, высокая степень канонизации и постоянная включенность в ритуальную или бытовую практику… И все же имеются факты, на которые стоит обратить внимание.
Давайте мысленно перенесемся в наше отечественное «бардовское» движение. В нем были представители разных профессий, в том числе и музыковеды. Один такой профессиональный музыковед – Владимир Фрумкин, написавший статью, которую представители движения хорошо знают. Статья называется «Откуда прилетел голубой шарик?». Речь идет о песне Булата Окуджавы «Девочка плачет – шарик улетел». Автор стоит на принципиальных позициях: авторская песня кажется простой, а на самом деле это сложный объект, вполне достойный профессионального музыковедческого интереса. И вот он со своим музыковедческим, скрупулезным подходом решил поработать с данной песней.
Первое, что он обнаружил, это то, что внутри данной песни «запрятан» мотив, который впрямую относится к тому самому интонационному словарю, которым занимался Яворский. Правда, это мотив особого рода. Он неоднократно использовался в творчестве многих композиторов – Моцарта, Верди, Рахманинова, Листа, Берлиоза и других. Это так называемый «Dies irae» («День гнева»): «Этот день превратит века в пепел».
По сути, именно первые восемь нот данного примера являются тем самым прочно вошедшим в культуру и почти всегда узнаваемым музыкальным символом. Собственно, этот мотив и имеет в виду Фрумкин.
Заметим, что к нашему более общему разговору о хронотопе это также имеет прямое отношение; ведь представление о конце света также включает в себя определенный хронотоп. Это – особая картина мира, где пространство и время занимают очень важное место.
Вот как об этом пишет автор статьи:
«Мелодия песни необычно сдержана и лаконична. Вырастает она из краткого, плавно восходящего мотива, который трижды повторяется, но каждый раз – на ступеньку ниже. Этот восходящий мотив из двух звуков и его нисходящие повторения отчетливо слышны, если сосредоточиться на главных, опорных звуках мелодии. ..
Для читателя-немузыканта: опорными становятся те звуки мелодии, которые попадают на сильные доли такта. Они слышнее, весомее других и поэтому образуют основу мелодии, ее каркас. Линия опорных звуков этой песни впечатляет четкостью структуры и упрямой логикой движения – плавными уступами, неуклонно – все ниже и ниже. Интересно и другое: в этом виде мелодия «Голубого шарика» обнаруживает явное родство с одним из мотивов, сложившихся в музыке XVI—XVIII веков, в эпоху барокко, породившей таких гигантов, как Бах, Гендель, Пёрселл, Вивальди. Вспомним один из инструментальных шедевров Генделя – «Пассакалию» из Седьмой сюиты для клавесина. Она написана в форме темы с вариациями. Опорные звуки темы – абсолютно те же, что и в «Песенке о голубом шарике»![23 - Владимир Фрумкин. Откуда прилетел голубой шарик. «Семь искусств», №6 (43) – июнь, https://7iskusstv.com/2013/Nomer6/Frumkin1.php]
Простая последовательность звуков представляет собой важнейший культурный символ. Фрумкин убежден, что этот мотив, примененный здесь Окуджавой, быть может и несознательно, тем не менее работает. Он создает дополнительный, теневой смысл, который мы не сознаем. Но этот теневой смысл как бы комментирует смысл, передаваемый словесным текстом. В свою очередь, словесный текст комментирует смысл, данного теневого музыкального символа. Символ комментирует текст песни, а текст песни комментирует символ. В этой статье Фрумкина есть две идеи, имеющие для нас особое значение. Первая идея состоит в том, что кажущаяся простой песня является на самом деле весьма сложно организованной смысловой системой. И потому представляет большой интерес для научного исследования. И второе – практика показывает, что какими-то ветрами эти элементы достаточно древнего интонационного словаря все-таки сюда проникают.
И обнаруживается это не только на примере песни «Девочка плачет». Возьмем известную песню «Дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина).[24 - https://possum.ru/?p=10241&ysclid=lmynj2aenc640278244]
При внимательном рассмотрении легко обнаруживаем «следы» «Dies irae».
На верхней строчке у нас расположена мелодия песни, а на нижней – опорные звуки. В качестве таковых взяты те, что приходятся на сильную долю такта. С одним лишь исключением – в пятом такте мы выделили звук фа, который, хотя и не приходится на сильную долю, зато повторяется дважды, что, согласитесь, также является средством подчеркивания.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: