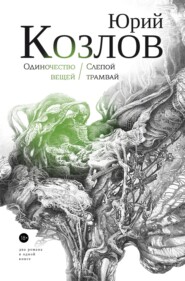По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Реформатор. Новый вор. Том 2.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никита помог отцу подняться.
Кое-как они добрались до дома.
На сей раз отец отделался вывихнутым плечом и разбитым носом.
Никите в ту пору было немного лет, он жил, особенно ни над чем не задумываясь, можно сказать, жил как растение (хотя, может статься, подобное сравнение оскорбительно для растения), однако острое ощущение бессмысленности отцовских действий запало ему в душу. Никита стал не то чтобы бояться, но опасаться отца, точнее, за отца. Отец как бы носил в себе нечто иррациональное, что могло в любое мгновение взорвать заурядную жизненную ситуацию, преобразовать ее в нечто непредсказуемое и… совершенно неуместное.
В «определении определяющего», таким образом, выходила осечка.
Притом что отец определенно не доставал до Бога и не становился вровень с Вечностью.
Что-то, однако, было.
Причем отнюдь не эпизодическое иррациональное и не усредненное среднестатистическое. Хотя отец в ту пору воплощал в себе обобщенный образ советского интеллигента, работника печати, служившего режиму и одновременно ненавидящего этот самый режим, имевшего от режима кусок и одновременно покусывающего руку, протягивающую ему этот самый кусок. Только спустя годы Никита продвинулся в «определении определяющего» отца: недовоплощенность. Нигде и ни в чем отец не шел до конца, сдаваясь на волю обстоятельств, застревая между хорошим, плохим и никаким. Он добивался исключительно промежуточных (тактических), а не конечных (стратегических) целей.
Никита частенько ловил на себе и брате его тревожно перемещающийся (оценивающий) взгляд, как если бы отец хотел понять нечто важное, кого-то из них выбрать, то есть «определял» в каждом из сыновей «определяющее» и… тоже никак не мог выбрать, определить.
Хотя, казалось, чего выбирать между копейкой (Никитой) и рублем (Саввой)?
Никита в детстве был толст и удивительно неуклюж. Преодолел немоту лишь к четырем годам, В школе смотрел в книгу, а видел фигу, во дворе частенько бывал бит сверстниками, дома же занимался в основном бесполезными делами, такими как лепка пластилиновых уродцев и вырезание из бумаги (опять же уродцев) с последующим размещением их в самых неожиданных местах: допустим, в шкатулке, где мать хранила браслеты и серьги, в запирающемся на ключ баре, где отец держал престижную заграничную выпивку, в холодильнике и даже… внутри обуви. Пластилиновые уродцы карабкались по бутылкам, как африканцы по пальмам, бумажные уродцы слетали со шкафов и люстр, как парашютисты или дельтапланеристы.
«Зачем ты это делаешь?» – не уставали спрашивать мать, отец, брат.
Никита не удостаивал ответом, пока наконец Савва не сформулировал вопрос иначе.
«Кто эти люди, брат?» – на полном серьезе поинтересовался он, как будто размножавшимся в квартире, подобно леммингам, бумажным и пластилиновым уродцам можно было дать хоть сколько-нибудь разумное определение.
«Это… народ», – вдруг ответил Никита, отметив, как дернулись зрачки в синих глазах Саввы и (боковым, не иначе, зрением) как дернулись зрачки у входящего в комнату (он всегда входил в самые неподходящие моменты) отца.
Больше они не беспокоили его вопросами насчет уродцев.
…Никита не поверил своему счастью, когда узнал, что старший брат берет его с собой в Крым.
Савва был высок, строен, светловолос, гибок, как молодая ольха или осина; в отличие от отца, не копил денег, был не эпизодически-истерически, а перманентно (как дышал) смел и уверен в себе. Идя со старшим братом по темному парку или по гадкому участку улицы, Никита ничего не боялся, потому что (по крайней мере, в его представлении) Савва был бесконечно выше тривиальных земных опасностей, как, допустим, орел выше тревог бегающих и ползающих по земле мышей и ужей. Хотя, конечно, это не означает, что презрительно (сыто?) посматривающего с высоты на ползающих по земле мышей и ужей орла вдруг не сразит пущенная с земли же пуля.
Девчонки сохли по Савве. Стиральная машина в ванной к концу недели была (как народно-песенная коробочка) полным-полна его испачканных помадой рубашек.
«Ты бы им намекнул, что ли, – просила мать, – чтобы они пользовались отстирывающейся помадой».
Особенно раздражала ее девушка, пользующаяся серебряной (практически не отстирывающейся) помадой, на свидания с которой Савва надевал самые красивые рубашки.
«Лучше бы ты надевал кольчугу, тогда пятна были бы не так заметны», – печалилась мать, посетившая не один хозяйственный магазин в поисках эффективного средства для борьбы с серебряной помадой.
В добавление к перечисленному Савва трижды в неделю плавал в бассейне, занимался в секции восточных единоборств, читал в день (как Сталин) не менее пятисот страниц убористого текста.
Мать читала мало и крайне избирательно, наверстывая, впрочем, упущенное в неврологических санаториях.
Никита тогда не читал вообще.
Второе место (с огромным отставанием) по чтению в семье занимал отец, который называл Савву «машиной для чтения».
«Знаешь, в чем основная конструкторская недоработка этой машины? – поинтересовался он однажды у Саввы. И, не дожидаясь (он, впрочем, и не предполагался) ответа, сам ответил: – Она жрет дикое количество топлива, но стоит на месте».
«Потому что летит, – возразил Савва, – со скоростью мысли, которая выше скорости света. Но это мало кто видит, а потому всем кажется, что она стоит на месте».
«А ты, стало быть, за рулем? И, стало быть, знаешь куда летишь?» – как вбил гвоздь, уточнил отец.
«Иногда мне кажется, – задумчиво ответил Савва, – что я не водитель и не пассажир, а… часть мотора. Мотор же, как известно, не может нести ответственности за скорость и направление движения».
Отец и Савва частенько вели странные беседы. До тринадцати лет Никита (за исключением печатной продукции эротического характера) не брал в руки книг (зато потом наверстал с лихвой), а потому хранил в незамусоренном, просторном, как храм (точнее, склад), нижнем (детском) этаже памяти все, что в те годы видел и слышал.
К примеру, ночной разговор отца и старшего брата накануне отбытия на отдых в Крым.
Был август, но смоговое, серо-черное, как оперение вороны, московское небо нет-нет да прорезывал тусклый трассер падающей звезды. Казалось, звезда падает из никуда в никуда, и, соответственно, не было ни малейшего смысла загадывать желание. Какой смысл загадывать желание, которое, возникнув из никуда, в никуда же и уйдет?
Бывало, отец коротал переходящие в ночи вечера на кухне за чашкой чая в обществе матери. В последнее время, однако, мать ложилась спать рано, и отец под предлогом поговорить за жизнь зазывал на кухню (когда тот был дома) Савву, который формально (студент-философ, отличник, совершеннолетний и т. д.) вполне годился в вечерние собеседники, точнее, в собутыльники.
Отец не скупился на эти трапезы. На столе можно было увидеть и копченого угря, и консервированного омара, несезонные (a стало быть, запредельные по цене) овощи, ветчинку-буженин- ку, французское или испанское красное вино, запотевшую плоскую в красном гербе «Smirnoff», маринованные грибки, крохотные, как новорожденные крокодильчики, соленые огурчики.
Никита, который (тогда) не любил читать, но (как и сейчас) любил вкусно пожрать, тоже подтягивался на кухню, набрасывался на деликатесы, сидел со слипающимися глазами в ожидании чая, надеясь, что к чаю у отца припасено нечто особенное.
Савва (сколько помнил его Никита) всегда ел и пил по-коммунистически (то есть исключительно по потребностям), духовно (а следовательно, и физически) пребывал «над» едой и питьем. Настроение у него не портилось, если он и Никита приходили куда-то, где, как представлялось, их ожидал хороший стол, а его не было, и не улучшалось, если приходили туда, где вообще не предполагалось никакого стола, а вдруг обнаруживался ломящийся лукуллов.
«Только уйдя за полста, – наливал Савве вино, себе водку, цеплял вилкой истекающего холодным скользким жиром угря отец, – я понял, что карьера, работа, семья – одним словом, весь круг общественных и прочих обязанностей – преходящ, я бы сказал, негативно-возвратно преходящ в смысле убывания отпущенного времени, то есть жизни. А кто есть вор времени и жизни по определению? – проглатывал водку, закусывал, смотрел на собственное отражение в темном оконном стекле. Должно быть, оно ему нравилось, потому что отец смотрел на него долго и внимательно. – Кто сказал, что все традиционное первично, а нетрадиционное вторично? – Мысль отца можно было уподобить знаменитому айсбергу, отдельные фрагменты которого всплывали на поверхность, основная же масса оставалась под водой. – Я понял, что есть жизнь, когда, в сущности, уже ее прожил. Что толку, – он переводил взгляд на так набившего рот, что ни вздохнуть, ни пошевелиться, Никиту, – тратить душевные силы и немалые деньги на детей, если растет в лучшем случае труба, превращающая продукты в дерьмо, в худшем… ничто? Что толку, – потрепал Никиту по лохматой двойной макушке, как бы давая понять, что он – не труба и не ничто, что к нему сказанное не относится, – рвать жилы на службе, делать карьеру, подсиживать редактора, если…» – не закончил, снова уставившись в ночное окно, словно там, как на компьютерном экране, были начертаны ответы на заданные вопросы, и эти ответы (в отличие от собственного отражения) крайне не понравились отцу.
«Если, – закончил Савва, – общественно-экономические формации конечны во времени и пространстве?»
«Как жизнь, – вздохнул отец. – Как думаешь, кто вор общественно-экономических формаций?»
«Как жизнь, – повторил Савва, – но не власть. Она бесконечна. Я думаю, дело не в том, кто вор общественно-экономических формаций. Да и можно ли считать это воровством? Вор крадет. Тут же речь идет о замене одного другим. Это может сделать только… Бог».
«Степень близости конца общественно-экономической формации, – посмотрел сквозь красное вино в бокале на лампу отец, – определяется степенью беспомощности и омерзительности власти внутри этой самой формации. Если бы тебе завтра предложили работать… в райкоме комсомола, ты бы пошел?»
«Пошел, – немало озадачил отца Савва, – поскольку общественно-экономическая формация вторична, а власть первична. Главное, не прозевать момент воровства, точнее, момент замены одного на другое, увидеть творящего историю Бога. Но оказавшиеся в данный момент наверху, – тоже навел на лампу бокал с красным вином, как перископ подводной лодки, – этого не понимают. Не понимают, что красный цвет бесконечен, сложен и многолик, как жизнь, как кровь. Не понимают, что, пока у них в руках волшебный кристалл власти, они могут заставить всех видеть вместо драного выцветшего кумача да хотя бы… вот это вино… Не понимают, что главное – не столько сама власть, сколько пластика бытия, а именно – контроль за моментом замены одного на другое. Суть и смысл власти в том, чтобы это не могло застать врасплох».
«Кристалл у них, – мрачно подтвердил отец, – но они не могут ничего!»
«Естественно, – рассмеялся Савва, – потому что ты решил отыграть в аут, остаться не у дел».
«Как бы они не упились этим вином, – словно не расслышал его отец, длинно отпил из своего бокала, вероятно, наглядно демонстрируя, как именно им можно упиться. – Время против пространства, – продолжил он. – СССР – это пространство. Но у него не осталось времени. Ничего не получится».
«Ты боишься, – сказал Савва, – потому что думаешь, что следом за СССР разрушится остальной мир. Он все равно разрушится. Но ты мог бы это отсрочить».
«Только когда пойму природу конца, природу смерти, – мрачно ответил отец. – То есть когда умру».
«Ты никогда не умрешь!» – вдруг с непонятной убежденностью произнес Савва.
«Как Ленин?» – усмехнулся отец.