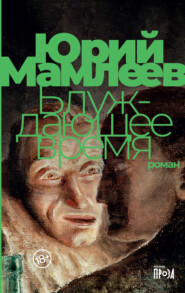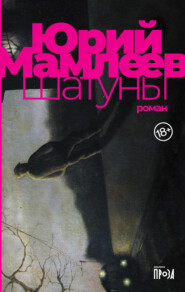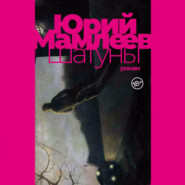По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
После конца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Валентин проговорил:
– Я не знаю. Мне нечего сказать. Я растерян.
Танира продолжала:
– Но есть вера в Непонятного. Эта вера касается только избранных, иногда верхов, тех, кто правит. Есть храм Непонятного. И вот Тувий, он представляет очень высокий уровень правления страны, он иногда поклоняется Непонятному, это просто небольшое замечание, чтоб ты знал об этом. Все-таки он умирает, поэтому ты должен немного знать о нашей религии. Хотя, скорее, это вовсе не религия.
Они встали, и Танира медленно пошла по коридору. Валентин пошел за ней. Огромная дверь оказалась перед ними. Деревянная. Массивная. На дверях – лица странных существ. Охранник открыл дверь. Они вошли в почти круглую комнату. В глубине – кровать, на кровати Валентин увидел маленького человека. Собственно, видна была только его голова, голова, которая виднелась из-под одеяла, тело же под одеялом странно двигалось. Он был маленький, впрочем, как и большинство этих людей.
Голова этого человека показалась Валентину не только маленькой, но и какой-то синенькой, похожей на какой-то неописуемый овощ, выросший где-то на другой планете, тем не менее это была голова: глаза блестели, рот был раскрыт и вел в черную бездну.
Танира сказала что-то по-своему. Он сделал жест рукой, и Танира указала Валентину на стул рядом с постелью, сама придвинула другой стол, такой же легкий, и села около Валентина. Она сказала ему:
– Ты помнишь, конечно, свои стихи, стихи твоего народа. Если даже не помнишь, просто говори, говори что хочешь. Главное, говори своим языком, ты слышишь?
Валентин, оцепеневши, молчал, и потом она бросила взгляд на Тувия, который лежал неподвижно, и взгляд его был устремлен прямо на Валентина. Он не сводил с него глаз, глаза были недвижимы, как смерть. Тогда Валентин собрался с духом и стал читать стихи, те, что приходили в голову. Он начал с Пушкина, потом вдруг Тютчев, Есенин, Блок, Лермонтов. Он помнил наизусть по крайней мере пятнадцать-двадцать стихотворений, но его настигло смятение. Он переходил от одного четверостишия к другому, читал какие-то отрывки, тем не менее произносил их с душой, вкладывая в эти звуки себя так, как будто бы он читал это там, далеко, тысячелетие назад в каком-нибудь кругу любимых им людей. Танира улыбалась, она была довольна, и глаза ее, обычно темные, залились каким-то чуть-чуть нежным светом. Звуки русской речи лились и лились. Валентин уже произносил не стихи, а говорил что-то отрывочное, как в сновидении, лишь бы сказать.
Глаза Тувия посветлели, но бездна, которая была выражена на его лице, не сходила, и постепенно в эту бездну падал какой-то покой, падало то, чего не было и не могло быть в этом мире. Его тело стало немного вибрировать, чуть-чуть дрожать, но это была дрожь успокоения, даже какого-то легкого наслаждения.
Наконец рот закрылся, он улыбнулся, сказал:
– Хватит, – и обратился к Танире на своем языке: – Танира! Это напомнило мне о Непонятном, но мне стало легче. Этот пришелец нужен мне. Мы договоримся с тобой, когда его привозить. Я скоро умру, но я хочу, чтобы последние дни мои я слушал эту речь. А теперь идите, меня должны проводить в Храм Непонятного, туда, где мы обращаемся к нему, в тот маленький зал, и никому ни слова, конечно, о том, что делал этот человек. Он – человек…
Танира воскликнула:
– Да, да! Он человек, он пришелец из той страны, из того времени!
– Все может быть, все может быть, потому что мир создал Непонятный, поэтому может быть все, все, абсолютно все, что для нас непостижимо вообще! – Старик прикрикнул при последних словах, рот его открылся, ведущий в черную пропасть, он задрожал, посмотрел на Валентина и крикнул Танире: – Я не хочу умирать! Вообще не хочу, но пусть он приходит, я хочу слышать звуки эти, хочу слышать, идите! Идите!
Танира резко встала, и они с Валентином вышли из зала.
…На обратном пути машина с Валентином и Танирой остановилась у развилки дорог на окраине. Дикая, огромная стая детей лет двенадцати-четырнадцати, вооруженных в основном железными прутьями, напала на машину. Искаженные злобой лица, уродливые от абстрактной ненависти… Но Танира увеличила скорость, и удалось избежать опасности.
Глава 7
– К Непонятному меня, к Непонятному, – завыл Тувий на следующее утро, как только проснулся.
Его снова отнесли в домашний храм Непонятного. Тувий выл, стоя на коленях. Потом стучал кулаками об пол. Обессиленного, его унесли в постель, и он заснул. Но не совсем, больше дремал, и в уме вдруг опять зазвучал отзвук доисторической русской речи…
– Валентин… Его имя Валентин, – прошептал Тувий.
Вдруг опять… поднялась ярость. Он позвонил.
– Звони Фурзду и попроси его приехать, – приказал вошедшему хромому человеку.
Фурзд, громадный и толстый, сидел в одном из своих тайных кабинетов в подземном особняке. Он гладил свой живот и думал. Завтра доклад Правителю, самому Террапу. Нужно выбрать то, что вызовет у Правителя судорогу наслаждения. Он изменчив, но есть основа. Пора… пора!
А что точно пора, Фурзд еще не знал. «И даже Танира не знает этого, – подумал он, – главное, не смотреть в зеркало».
Зеркала были запрещены во всей стране, по всей Ауфири. За нарушение – если кто-то хранил зеркало – выжигали глаза. Этот старый закон был принят давно, ибо считалось, что, если человек смотрит на себя в зеркало, он начинает сомневаться в своем существовании. Когда еще зеркала не были запрещены, многие ауфирцы, когда видели свое отражение в зеркале, начали сомневаться, что это они. Они начинали особым образом выть, сомневаясь в своем существовании. Это приближало их к несуществующим, но несколько в другом ключе. Началась настоящая эпидемия несуществования, и поэтому возник запрет на зеркала. Но люди власти сделали исключение для себя, как ауфирцев сильной воли. Им было разрешено, но не рекомендовано.
Фурзд давно не смотрел на себя в зеркало. Правда, когда на днях мельком взглянул, то решил, что видит не себя, а черта. Бесы вообще при определенных условиях мелькали с молниеносной видимостью то там, то сям в доме.
Фурзд не придавал этому глобального значения. Бесы всегда были и будут. Его интересовала власть. Но ради чего? Ради самой власти – скучно. Фурзд не выносил ауфирской черни и ее поклонения. «Их дело – нас выбирать, – говорил он, – согласно закону о выборах, но выбирать кого надо, то есть нас. И при этом обязательно считать, что это она, чернь, управляет страной, а не ею управляют. Свобода прежде всего, – ухмыльнулся он, – но некоторые из нас любят народ». Теперешний Правитель, например. И его любят…» И тут Фурзд захохотал так, что из-за маленькой двери в углу высунулся испуганный прислужник и скрылся.
– Знаем, знаем характер этой причудливой любви… Иго-го! Иго-го! Такого еще не было в этой стране.
Фурзд встал и потянулся. «Надо проверить Дом первого безумия», – решил он. В это время позвонили. Он взял изящную телефонную трубку. Его просили срочно заехать к Тувию.
…Тувий лежал, закрыв глаза.
– Это ты, Фурзд? – тихо спросил он.
– Я рядом, – ответил Фурзд.
Он сидел на стуле и своим неподвижным властным взглядом смотрел на Тувия.
Это почти мертвое лицо открылось Фурзду, и Тувий медленно проговорил:
– Фурзд, ты знаешь, какой я влиятельный человек, какие у меня ключи, но мне плохо, я хочу сказать тебе некоторые вещи, слушай меня.
– Я слушаю внимательно, я весь готов слушать тебя.
Тувий повернулся к нему всем своим телом, всем своим существом.
Фурзд напрягся и впился взглядом в лицо Тувия. Тувий продолжал:
– Танира приводила ко мне пришельца. Он читал стихи.
Фурзд откинулся:
– Стихи?
– Да, да, стихи, поэзию. Ты знаешь, что это такое?
– Я знаю, что за это полагается смертная казнь, но к нам это не относится. Продолжай, Тувий.
– Так вот он, этот пришелец, говорил на своем языке, и, знаешь, Фурзд, мне стало легче. В их языке что-то заключено, чего нет у нас, и не только у нас.
– В каком смысле тебе стало легче, Тувий? – спросил Фурзд.
– Мне стало легче на сердце, на душе, вот так.
– И что ты хочешь этим сказать, Тувий?
– Я хочу этим сказать, что от смерти это все равно не спасет, но главное, что я хочу тебе сказать, этот пришелец навел меня на эту мысль окончательно, я хочу сказать, что в нашей стране надо что-то менять.
– Менять? – лицо Фурзда насторожилось, взгляд стал еще более напряженным.
– Я не знаю. Мне нечего сказать. Я растерян.
Танира продолжала:
– Но есть вера в Непонятного. Эта вера касается только избранных, иногда верхов, тех, кто правит. Есть храм Непонятного. И вот Тувий, он представляет очень высокий уровень правления страны, он иногда поклоняется Непонятному, это просто небольшое замечание, чтоб ты знал об этом. Все-таки он умирает, поэтому ты должен немного знать о нашей религии. Хотя, скорее, это вовсе не религия.
Они встали, и Танира медленно пошла по коридору. Валентин пошел за ней. Огромная дверь оказалась перед ними. Деревянная. Массивная. На дверях – лица странных существ. Охранник открыл дверь. Они вошли в почти круглую комнату. В глубине – кровать, на кровати Валентин увидел маленького человека. Собственно, видна была только его голова, голова, которая виднелась из-под одеяла, тело же под одеялом странно двигалось. Он был маленький, впрочем, как и большинство этих людей.
Голова этого человека показалась Валентину не только маленькой, но и какой-то синенькой, похожей на какой-то неописуемый овощ, выросший где-то на другой планете, тем не менее это была голова: глаза блестели, рот был раскрыт и вел в черную бездну.
Танира сказала что-то по-своему. Он сделал жест рукой, и Танира указала Валентину на стул рядом с постелью, сама придвинула другой стол, такой же легкий, и села около Валентина. Она сказала ему:
– Ты помнишь, конечно, свои стихи, стихи твоего народа. Если даже не помнишь, просто говори, говори что хочешь. Главное, говори своим языком, ты слышишь?
Валентин, оцепеневши, молчал, и потом она бросила взгляд на Тувия, который лежал неподвижно, и взгляд его был устремлен прямо на Валентина. Он не сводил с него глаз, глаза были недвижимы, как смерть. Тогда Валентин собрался с духом и стал читать стихи, те, что приходили в голову. Он начал с Пушкина, потом вдруг Тютчев, Есенин, Блок, Лермонтов. Он помнил наизусть по крайней мере пятнадцать-двадцать стихотворений, но его настигло смятение. Он переходил от одного четверостишия к другому, читал какие-то отрывки, тем не менее произносил их с душой, вкладывая в эти звуки себя так, как будто бы он читал это там, далеко, тысячелетие назад в каком-нибудь кругу любимых им людей. Танира улыбалась, она была довольна, и глаза ее, обычно темные, залились каким-то чуть-чуть нежным светом. Звуки русской речи лились и лились. Валентин уже произносил не стихи, а говорил что-то отрывочное, как в сновидении, лишь бы сказать.
Глаза Тувия посветлели, но бездна, которая была выражена на его лице, не сходила, и постепенно в эту бездну падал какой-то покой, падало то, чего не было и не могло быть в этом мире. Его тело стало немного вибрировать, чуть-чуть дрожать, но это была дрожь успокоения, даже какого-то легкого наслаждения.
Наконец рот закрылся, он улыбнулся, сказал:
– Хватит, – и обратился к Танире на своем языке: – Танира! Это напомнило мне о Непонятном, но мне стало легче. Этот пришелец нужен мне. Мы договоримся с тобой, когда его привозить. Я скоро умру, но я хочу, чтобы последние дни мои я слушал эту речь. А теперь идите, меня должны проводить в Храм Непонятного, туда, где мы обращаемся к нему, в тот маленький зал, и никому ни слова, конечно, о том, что делал этот человек. Он – человек…
Танира воскликнула:
– Да, да! Он человек, он пришелец из той страны, из того времени!
– Все может быть, все может быть, потому что мир создал Непонятный, поэтому может быть все, все, абсолютно все, что для нас непостижимо вообще! – Старик прикрикнул при последних словах, рот его открылся, ведущий в черную пропасть, он задрожал, посмотрел на Валентина и крикнул Танире: – Я не хочу умирать! Вообще не хочу, но пусть он приходит, я хочу слышать звуки эти, хочу слышать, идите! Идите!
Танира резко встала, и они с Валентином вышли из зала.
…На обратном пути машина с Валентином и Танирой остановилась у развилки дорог на окраине. Дикая, огромная стая детей лет двенадцати-четырнадцати, вооруженных в основном железными прутьями, напала на машину. Искаженные злобой лица, уродливые от абстрактной ненависти… Но Танира увеличила скорость, и удалось избежать опасности.
Глава 7
– К Непонятному меня, к Непонятному, – завыл Тувий на следующее утро, как только проснулся.
Его снова отнесли в домашний храм Непонятного. Тувий выл, стоя на коленях. Потом стучал кулаками об пол. Обессиленного, его унесли в постель, и он заснул. Но не совсем, больше дремал, и в уме вдруг опять зазвучал отзвук доисторической русской речи…
– Валентин… Его имя Валентин, – прошептал Тувий.
Вдруг опять… поднялась ярость. Он позвонил.
– Звони Фурзду и попроси его приехать, – приказал вошедшему хромому человеку.
Фурзд, громадный и толстый, сидел в одном из своих тайных кабинетов в подземном особняке. Он гладил свой живот и думал. Завтра доклад Правителю, самому Террапу. Нужно выбрать то, что вызовет у Правителя судорогу наслаждения. Он изменчив, но есть основа. Пора… пора!
А что точно пора, Фурзд еще не знал. «И даже Танира не знает этого, – подумал он, – главное, не смотреть в зеркало».
Зеркала были запрещены во всей стране, по всей Ауфири. За нарушение – если кто-то хранил зеркало – выжигали глаза. Этот старый закон был принят давно, ибо считалось, что, если человек смотрит на себя в зеркало, он начинает сомневаться в своем существовании. Когда еще зеркала не были запрещены, многие ауфирцы, когда видели свое отражение в зеркале, начали сомневаться, что это они. Они начинали особым образом выть, сомневаясь в своем существовании. Это приближало их к несуществующим, но несколько в другом ключе. Началась настоящая эпидемия несуществования, и поэтому возник запрет на зеркала. Но люди власти сделали исключение для себя, как ауфирцев сильной воли. Им было разрешено, но не рекомендовано.
Фурзд давно не смотрел на себя в зеркало. Правда, когда на днях мельком взглянул, то решил, что видит не себя, а черта. Бесы вообще при определенных условиях мелькали с молниеносной видимостью то там, то сям в доме.
Фурзд не придавал этому глобального значения. Бесы всегда были и будут. Его интересовала власть. Но ради чего? Ради самой власти – скучно. Фурзд не выносил ауфирской черни и ее поклонения. «Их дело – нас выбирать, – говорил он, – согласно закону о выборах, но выбирать кого надо, то есть нас. И при этом обязательно считать, что это она, чернь, управляет страной, а не ею управляют. Свобода прежде всего, – ухмыльнулся он, – но некоторые из нас любят народ». Теперешний Правитель, например. И его любят…» И тут Фурзд захохотал так, что из-за маленькой двери в углу высунулся испуганный прислужник и скрылся.
– Знаем, знаем характер этой причудливой любви… Иго-го! Иго-го! Такого еще не было в этой стране.
Фурзд встал и потянулся. «Надо проверить Дом первого безумия», – решил он. В это время позвонили. Он взял изящную телефонную трубку. Его просили срочно заехать к Тувию.
…Тувий лежал, закрыв глаза.
– Это ты, Фурзд? – тихо спросил он.
– Я рядом, – ответил Фурзд.
Он сидел на стуле и своим неподвижным властным взглядом смотрел на Тувия.
Это почти мертвое лицо открылось Фурзду, и Тувий медленно проговорил:
– Фурзд, ты знаешь, какой я влиятельный человек, какие у меня ключи, но мне плохо, я хочу сказать тебе некоторые вещи, слушай меня.
– Я слушаю внимательно, я весь готов слушать тебя.
Тувий повернулся к нему всем своим телом, всем своим существом.
Фурзд напрягся и впился взглядом в лицо Тувия. Тувий продолжал:
– Танира приводила ко мне пришельца. Он читал стихи.
Фурзд откинулся:
– Стихи?
– Да, да, стихи, поэзию. Ты знаешь, что это такое?
– Я знаю, что за это полагается смертная казнь, но к нам это не относится. Продолжай, Тувий.
– Так вот он, этот пришелец, говорил на своем языке, и, знаешь, Фурзд, мне стало легче. В их языке что-то заключено, чего нет у нас, и не только у нас.
– В каком смысле тебе стало легче, Тувий? – спросил Фурзд.
– Мне стало легче на сердце, на душе, вот так.
– И что ты хочешь этим сказать, Тувий?
– Я хочу этим сказать, что от смерти это все равно не спасет, но главное, что я хочу тебе сказать, этот пришелец навел меня на эту мысль окончательно, я хочу сказать, что в нашей стране надо что-то менять.
– Менять? – лицо Фурзда насторожилось, взгляд стал еще более напряженным.