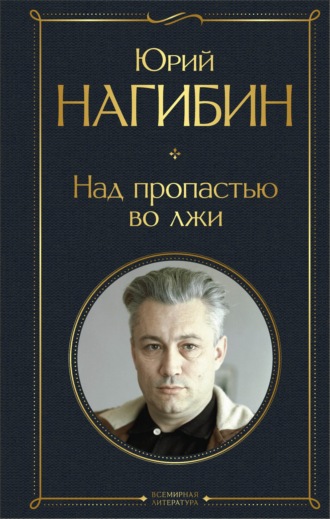
Над пропастью во лжи
– Это из экономии? – с усмешкой спросил он.
– Да! – простодушно вскинулась Варвара Алексеевна. – У мужа был принцип: не бояться экстраординарных трат и экономить на повседневном. Он мог выбросить уйму денег на арабского скакуна или английское ружье, но у нас был очень простой стол, скромный гардероб, мальчики сами себя обслуживают. Мы держали одну прислугу за все, я перешиваю платья, вяжу теплые вещи, штопаю, латаю.
– Но у вас же имения, – удивленно сказал Корягин. – Романовы самые богатые помещики России.
– Не самые богатые, – улыбнулась она. – И не все. Мы жили на жалованье мужа. Теперь на пенсию. Он отдал почти все состояние младшим сестрам – у них не сложилась жизнь, а на остаток содержал вдовьи дома. Там живут солдатские вдовы и сироты. Вы не думайте, – сказала она с поспешной деликатностью, – в их судьбе ничего не изменится. Муж сделал необходимые распоряжения на случай своей смерти. А я на мои средства поддерживаю приют для брошенных детей и небольшой женский монастырь. Конечно, мы не бедняки, но и далеко не такие богатые, как может показаться.
– Вам ли жаловаться! – сказал Корягин, забыв, что обращается к вдове убитого им человека.
Он тут же вспомнил об этом и затек со лба на скулы тяжелой темной кровью.
Варвара Алексеевна вроде бы не заметила ни его неловкости, ни смущения.
– Я не жалуюсь. Просто объясняю наши обстоятельства. Люди очень плохо знают жизнь друг друга и не стараются узнать. Милее самому придумать.
Это было справедливо, но неинтересно Корягину, как и прочая житейщина, которой он уже не принадлежал. У него не было точек соприкосновения с Варварой Алексеевной, кроме одной: ее убитый муж.
Похоже, она расположилась тут надолго. Достала вязанье, удивительно ловко устроилась на шатком табурете, приткнув его к стене, и всем видом показывала готовность к хорошей, проникновенной беседе, что никак не отвечало желаниям Корягина. Он поступил простейшим способом: заснул. Вернее, очень неискусно сделал вид, что спит. Заботясь о правдоподобии, он несколько поспешно захрапел, да еще с присвистом. Но доверчивость Варвары Алексеевны была непробиваема.
– Бедный мальчик! – вздохнула она, поцеловала его в лоб и на цыпочках вышла.
А на другой день пришла снова…
«…Для чего приходит сюда эта несчастная женщина, у которой я отнял смысл жизни? У нее остались сыновья, дом, какие-то внешние заботы, но стержень ее жизни сломан. Она же любила этого урода… А черт его знает, может, он и не такой урод, каким он мне казался? Она верно сказала, что мы ничего не знаем о жизни других людей да и не стараемся узнать. Много безответственной болтовни, льются и льются словесные помои, особенно на тех, кто выше, у кого власть, деньги, положение. Я готов допустить, что среди своих, в своей среде, он был не из худших – хороши же остальные! – внимательный муж, добрый отец, компанейский малый, может, и солдат по-своему любил, хотя и не жалел их крови. Вон дома вдовьи построил…»
Но все эти рассуждения не прибавили Корягину симпатии к великому князю. Он так привык ненавидеть его долговязую фигуру, всос бородатых щек, выпученные глаза, противные, какие-то собственнические жесты, журавлиную походку и нервный вскид головы, что уже не мог увидеть другими глазами. К тому же его раздражала зашоренная преданность Варвары Алексеевны настырной тени, и мерзко было думать, что между ними существовала близость. Его удивляло, злило и обескураживало то простодушие, с каким она то и дело заговаривала о покойном. Она никогда не говорила столько о своих сыновьях и всей прочей, довольно многообразной жизни. Ей было приятно вспоминать о всяких мелочах, с ним связанных, о ничтожных подробностях его поведения, словечках, шутках, охотничьих подвигах, чудачествах: он играл на английском рожке и разводил турманов. Однажды, когда она вновь принялась восхвалять достоинства своего мужа, Корягин оборвал захлебное словоистечение:
– Зачем вы всё это говорите? Хотите внушить мне, что ваш муж замечательный человек? Чтобы я пустил покаянную слезу? Вы этого не дождетесь.
Последовала долгая пауза, как и всегда, когда ее что-то озадачивало.
– Наверное, я хочу, чтобы вы его простили.
Он с трудом сдержал смех:
– Мне его прощать? Скорее наоборот.
– Но он там… Он, конечно, простил. Ну и вы его простите. Зачем жить с ненавистью в душе? Это же плохо.
– Жить! – повторил он. – Вы серьезно думаете, что я буду жить?
– Да! Мне не могут отказать. Не посмеют. Мы оба просим за вас. Наш суд высший.
– Не расписывайтесь за других, – криво усмехнулся Корягин…
Вскоре он понял, что спорить с ней бесполезно. Очень внимательная к его настроению и поведению, она тщательно следила за тем, чтобы не утомить его, не наскучить своей предупредительностью; могла быть разговорчивой, когда он снисходительно терпел ее болтовню, и тихой, как мышка, когда он проваливался в собственные мысли, но в чем-то была непоколебима. Да не «в чем-то», а во всех своих убеждениях это мягкое, женственное существо являло крепость скалы. Даже в болтовне о разных житейских мелочах она не теряла четкую моральную позицию, которая зиждилась на вере в добро. Тут ее не сбить ни доказательствами, ни сарказмом, ни насмешками, ни эмоциональной бурей. В ее цельном мирочувствовании не было прорех, швов и пустот.
Но чего-то он все-таки не понимал. Однажды в своей кроткой манере она обмолвилась чудовищной фразой: «…вы же последний видели моего мужа». И не поперхнулась, не спохватилась, как будто так и надо.
Звучит дико, но он так прочно связался в ее сознании с мужем, что она перестала делать различие между ними. Оба были замешаны в трагедию, срыв ее жизни, что наделяло их равной значительностью, почти родностью. При ее понимании греха и прощения так и в самом деле могло быть.
Корягина не удовлетворяло это искусственное, хотя и не лишенное крупицы смысла объяснение, другого он не находил и потому не мог избавиться от чувства настороженности. Что так притягивало ее к нему? Не могла же она из отвлеченного милосердия и прочих натужных христианских благоглупостей чуть не каждый день приезжать в крепость, сидеть часами у его изголовья, возиться с неаппетитной раной, закармливать шоколадом – любил сладкое – и выслушивать грубости. Первый визит можно объяснить мучительным любопытством к человеку, сыгравшему роль рока. Не каждая вдова способна на такое, все же это объяснение допустимо. Но, потрафив своему больному чувству, надо было опрометью бежать отсюда, а Варвара Алексеевна стала его сиделкой. И она действительно подала на помилование, иначе бы его давно вздернули. И как изменилось отношение к нему хамов-тюремщиков!
Корягин не заблуждался на свой счет, он знал, что неприятен окружающим: резкий, колючий, никогда ни к кому не подлаживающийся. А с Варварой Алексеевной он вел себя вовсе непотребно, особенно поначалу. Но это ее не отпугнуло. Она даже привязалась к нему, он кожей чувствовал исходящее от нее тепло. Материнская жалость тут ни при чем, у нее были собственные осиротевшие дети, да и слишком молода она для такого взрослого сына. Это было бессознательное расположение – не по-хорошему мил, а по милу хорош, – на которое накладывались ее доброта и сердечность.
Ей хотелось больше знать о нем, но его жизнь была так бедна поначалу, так пуста и плоска, а потом так выострена к одной цели, что ему нечего было ей сказать. Впрочем, разговора как обмена соображениями и сведениями между ними почти не бывало. Обычно говорила она, а он слушал или не слушал, но как-то отзывался нутром на тихое журчание голоса, который был к нему бескорыстно ласков. Иногда она гладила его по волосам своей легкой, нежной, проникающей рукой.
Она уходила, а он продолжал чувствовать корнями волос ее прикосновения. Однажды ему показалось, что он понял ее цель в отношении него. К ней приезжала мать-настоятельница той малой женской обители, которую она поддерживала. Девяностолетняя старуха, а сколько в ней доброго ума, понимания людей, до чего же ясный, незамутненный дух!.. Как только повеяло ладаном, он отключал слух, но в глухоту проникали умиленные речи о тишине затерянной в глухом еловом бору обители, о мечте по завершении мирских дел окончить там свои дни, остаться наедине с собственной душой, а через нее – с Богом, и прочей душеспасительной белиберде. Потом он услышал ее выжидательное молчание и спросил с усмешкой:
– Вы что, хотите примирить меня с Богом?
Он ждал постного взгляда, поджатых губок, обиды за ханжеской кротостью, но она ответила милой шуткой:
– А разве вы ссорились?
– Но я же преступник… в ваших глазах. А преступник не может быть в хороших отношениях с Богом.
– Кто это знает?.. Кто, кроме Бога, знает тайное в человеке? Может, в глубине души вы ближе к Богу, чем я. Я хожу в церковь, совершаю все обряды, молюсь, забочусь о бедных. Я, как говорится, тепло верующая. Но Христу были дороже заблуждающиеся, сбившиеся с пути, отвергающие его… Какое у вас кислое лицо! Вам скучно?
– Скучно. Скажите честно, неужели вы верите во второе пришествие, Страшный суд, во весь этот омерзительно живодерский бред?
– Геенну огненную я уже получила, – тихо сказала она. – Как же мне не верить? Но хотите честно, так честно, как никогда и никому? Для меня все христианство в Нагорной проповеди. Я как-то не могу представить себе Христа в гневе, Христа карающего, Христа, возвращающего мертвых, чтобы вновь ввергнуть их в преисподню. В Священном писании есть места, которые мне непонятны. Немногие войдут со Спасителем в Царствие небесное и сядут за пиршественный стол Небесного Отца. А как же с искуплением грехов? Ради чего взошел Христос на крест? Ведь он же искупил грехи человеческие. Он подарил нам свободу праведности. Тогда при чем тут «в страхе Божием»? Вы знаете, мне иногда кажется, что Христа допридумывали. Ведь после Нагорной проповеди ничего больше не надо. Держать людей под угрозой расплаты – это плохо даже для земных судей, а для Небесного вовсе никуда не годится. Видите, я богохульствую. Но Нагорная проповедь – это такая прелесть, такое благоухание духа!.. Можно, я вам немного почитаю?
«Я так и знал, что этим кончится! – с досадой подумал Корягин. – О чем бы такие ни болтали, все кончается проповедью и Боженькой. Уходя, она оставит мне молитвенник, и перед смертью я сдам экзамен по закону Божьему».
Из-под края юбки торчал острый мысок ее ботинка, подъем ноги был крут, натянувшаяся юбка сохраняла контур ее красивой, какой-то щеголеватой ноги.
– Валяйте, – разрешил Корягин.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное… Блаженны плачущие, ибо они утешатся… Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю… Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся…»
А он прослеживал ее ногу от ботинка до изгиба бедра, а потом вниз от бедра до ботинка. Это была увлекательная игра.
Странно, она казалась ему худощавой, но как обманчиво это впечатление: она плотная, упругая, крепко сбитая, только руки маленькие, но сильные и ловкие. Она находилась в самом женском расцвете и еще родить могла бы. Он как-то ложно увидел ее поначалу, а потом с непонятным упорством держал в себе образ пожилой женщины. Она не могла испытывать к нему материнского чувства. А какое? Христианское, то, которое изливалось на него сейчас словами Нагорной проповеди?.. Нет, она была слишком живым и горячим человеком, а небеса холодны. Конечно, их связывает что-то вполне человеческое. Хотелось бы понять что?..
Он не заметил, как вработался в постоянные мысли о ней. Мысли – это не совсем точно, вернее, совсем не точно. Ее присутствие в нем не было связано с думанием. Он мог думать о чем-то другом, вполне житейском, сегодняшнем, или вовсе отвлеченном от насущных забот, мог уйти в воспоминания, последнее случалось нечасто, она все равно присутствовала в нем, лишь перемещаясь с переднего на задний план. Она была то субъектом, то фоном, четким или размытым, всех движений его внутренней жизни. Вот он проснулся и думает: что лучше – выкурить папиросу или встать, умыться, потом выкурить, а она уже в нем, он насыщен ее теплом и светом.
Он не знал, что такое бывает: ты один, а все вдвоем. Она не оставляла его и ночью во сне. Он всегда думал о ней, засыпая, думал подробно: о ее лице, глазах, губах, волосах, шее, груди, руках, бедрах, ногах, думал сильно, с каким-то даже ожесточением, впиваясь зубами и ногтями в подушку, вжимая тело в твердый матрас, улавливая запах ее духов на себе, она ведь перебинтовывала его, гладила по волосам, а уходя, пожимала руку и целовала в лоб. Он вынюхивал ее из себя, проникался ею до кишок, так что создавалась иллюзия присутствия. И, засыпая, он не расставался с ней, ибо она подчинила себе его сны.
Это были непонятные сны, ни к чему не имеющие отношения и как-то бессмысленно-волнующе завязанные на ней. Раз она явилась в грубом фартуке сапожника, и они вдвоем приколачивали набойки к старым, сношенным сапогам с короткими голенищами. И почему-то это доставляло острую радость. В другой раз она настойчиво обещала накормить его супом, приводя его в странное возбуждение, но так и не начала готовить. Сон придавал значительность и тайный смысл несусветной чепухе. Было и такое: они куда-то собирались, долго, озабоченно, бестолково, теряя то один предмет одежды, то другой, не застегивались пуговицы, обрывались застежки, сон иссяк в тот момент, когда она разорвала юбку, а он потерял запонку. Он потом долго ломал голову, куда они намеревались пойти. Общее в этих снах, кроме их физической отчетливости, резкой, ничуть не сдвинутой, не замутненной, насыщенной мелочами жизненности, были неосуществленность намерения: набойки, несмотря на все ликование, так и не были прибиты, суп не сварен, сборы не закончены, но ощущение важности пустых хлопот и возникающей из совместных усилий близости оборачивалось пронзительным и долгим блаженством.
Проснувшись впервые в мокрых простынях, он поразился, что блаженство вовсе не было умозрительным. А затем подумал о том, что влажный след любви, высохнув, останется постыдным плесеневым пятном, иззубренным, как очертания европейского материка. А какой может быть стыд у приговоренного к смерти? Плевать он на все хотел. Его уже ничем не прошибешь…
Он мог проверить это в утро своей казни, вернее, в те минуты, когда его вели через тюремный двор к виселице и он понял, что не увидит Варвару Алексеевну и не простится с ней хотя бы кивком.
Известие об отказе о помиловании он выслушал спокойно, ибо ни на минуту не заблуждался в тщетности попыток Варвары Алексеевны. Только при ее наивности и вере в добро можно было рассчитывать на милосердие власти. Крайние утверждения всегда ложны. Конечно, раз-другой мелькнула у него слабодушная мыслишка: а вдруг?.. Но подготовленность к смерти была настолько прочна, что эти оскользы в чужую надежду не могли поколебать ее. Он не дрогнул, и они это видели.
Если же стиснулось сердце, то не из жалости к себе, а к ней, она-то всерьез верила… Он отказался от исповеди, но ждал последнего свидания. Он не собирался говорить о своем раскаянии, которого так и не испытал, и слюнявиться благодарностью не думал, он чувствовал совсем иное, о чем нельзя было сказать, да и не нужно. Он просто хотел увидеть ее лицо, глаза, рот, волосы, всю ее увидеть и унести с собой.
Разве это так много: дать умирающему увидеть в последний раз человека, который был добр к нему? Единственного человека. У него никого больше не было на свете. Много, очень много для того, кого убивают, и ровным счетом ничего для тех, кто убивает. Или им мало зрелища содрогающегося в петле тела? Ее должны были пустить даже не ради него, а ради нее самой. Она больше нуждается в ободряющем жесте. В кивке, улыбке, взмахе руки, ей стало бы легче. Это важно, очень важно для всей ее последующей жизни. Но ее не пустили. Даже для овдовевшей женщины не нашлось у них капли жалости. И все же он верил, что она появится. Не может не появиться. Уже в тени помоста все еще верил, что увидит ее. Но когда его подтолкнули к ступеньке, он понял, что надежды нет, и душа в нем сорвалась с колков. Он закричал, пытался бежать, но, схваченный конвойными, забился в их руках и окончательно потерял себя. Он дрался, царапался, кусался, его опрокинули на землю и, воющего, окровавленного, с мокрыми штанами, поволокли к виселице. Всякое видали на этом плацу, но такого срама – никогда.
Когда Корягина втащили на помост и палач накинул петлю, сидящая в карете за караулкой дама в черном поднесла к глазам медальон с чертами дорогого лица и сказала голосом невыразимой нежности:
– Ты доволен, любовь моя?..
Рассказ синего лягушонка
Лягушонок – это дитя, но люди привыкли называть так каждую маленькую лягушку, не заботясь ее возрастом. А я хоть и взрослый, но очень маленький, значит, – лягушонок. И я не синий, а бурый, как палый перепревший осиновый лист, когда совсем потухает на нем багрец и сходит желтизна с прожилок. Меня не обнаружишь на такой листве даже пронзительным вороньим глазом, но весной я, как и все мои сородичи, обретаю ярко-синюю окраску, бьющую на солнце в кобальт. Эта чрезмерная яркость не смущает и не пугает нас, хотя мы не любим привлекать к себе внимания, но вешней порой забываешь о страхе, даже о естественной осторожности: подруги должны узнавать нас издали своими близорукими глазами и слетаться на синюю красоту, как мотыльки на огонек.
Я не выделяю себя из сородичей, но у меня особые обстоятельства. Я продолжал любить Алису и был равнодушен к порывам болотных красавиц, хотя природа брала свое, и без вожделения, со стыдом и отвращением к самому себе, я уступал велению закона, требующего, чтобы всплыла под листья кувшинок и кубышек оплодотворенная прозрачно-бесцветная икра.
Лягушки беззащитны, самые беззащитные существа на свете, как будто созданные для повального истребления. Единственная наша оборона – воля к размножению. Оглушительные весенние концерты, цветковые превращения, бесстрашие, с каким мы рвемся к любимым сквозь все препятствия и смертельные опасности, неутомимость партнерш, способных день-деньской скакать под грузом зачарованного всадника, – все служит одной цели: не дать исчезнуть нашему кроткому роду. Но у меня, как уже сказано, особое положение: еще недавно я был человеком и все время помнил об этом. Только не надо думать о колдовских чарах, злом волшебстве: случившееся со мной вполне закономерно и естественно, как и те непознанные события в потоке сущего, которые мы условно называем рождением и смертью – прекраснейшие символы из всех придуманных людьми для обозначения недоступного разуму. Так вот, в моем превращении нет ничего от глуповатых сказок о принцессе-лягушке или обращенном в зверя лесном царевиче и тому подобной галиматье, которой морочат холодное и трезвое сознание ребенка.
Так что же случилось со мной? Да то же, что рано или поздно случается с каждым гостем земли: я умер по изжитию довольно долгого и трудного, как у всех моих соотечественников, но не ужасного и трагичного, что тоже не редкость, существования, узнав много радостей и не меньше горестей, частично осуществив свое земное назначение, если я его правильно понимал, больной и сильно изношенный, но не истратившийся до конца, ибо мог сильно, все время помня об этом, любить. Я любил свою жену, с которой прожил последние тридцать лет жизни – самых важных и лучших. К поре нашей встречи во мне угасли низкие страсти затянувшейся молодости (справедливо, что не дает плодов то дерево, которое не цвело весной, но плохо, когда весна слишком затягивается и цветенье становится ложным – пустоцвет), и, уже не отягощенный ими, каждый божий день, каждый божий час жил своей любовью, что не мешало работе, радости от книг, музыки, живописи, новых мест, социальной заинтересованности и все обостряющемуся чувству природы. Это была жизнь без ущерба, моя старость не стала немощью, хворобы не застили солнца, мы были полно счастливы в кратере вулканической помойки, способной в любое мгновение излиться лавой крови и дерьма.
Но долгое мое умирание было омрачено обидой и болью – не надышался я дорогим человеком, не наговорился с ним всласть, я еще был способен на объятие, на восторг, на жестокую ссору – спектр наших отношений не потерял ни одной краски, напротив, все сильнее и сильнее чувствовал я ее жизнь рядом с собой. Нам даже путешествовать расхотелось, а мы так любили слоняться по миру. Куда увлекательнее оказалось непрекращающееся путешествие друг к другу. Нет, рано нас растащили, рано отправили меня в иное странствие.
А смерть так и начинается. Это все правда, то, что казалось пустой болтовней досужих и беспокойных умом людей: залитый слезами – покойники плачут внутренним, никому не видимым лицом, – ты, уже испустивший последний вздох и отключенный от мира живых, но все сознающий, просквоженный страданием, вовлекаешься в долгий узкий тоннель со светлой точкой в конце. Ты летишь по нему, слезы обсыхают на щеках, и затухает музыка, о которой ты прежде не догадывался, тихая музыка мироздания, включающая и твою собственную ноту.
Она замолкла до того, как я достиг конца тоннеля. Дальше – провал. Не знаю, со всеми ли так бывает, возможно, исход каждого творится на свой особый лад, но я потерял себя раньше, чем вырвался в манящий свет.
Очнулся я и обрел новое место в мире, уже просуществовав в нем бессознательно то время, какое надо, чтобы из икринки вылупился головастик, вырос, оформился в хвостатое дитя, выбрался на берег, сбросил хвост, подрос и уже взрослой особью вдруг осознал свой новый образ. Я тщетно пытаюсь вспомнить хоть какой-то проблеск сознания на этом длинном пути развития. Но ведь и в человечьей моей жизни я ничего не знал о себе до четырехлетнего возраста. Близкие долго мучили меня в детстве, заставляя вспомнить, как бабушка играла на рояле «Турецкий марш», чтобы я ел манную кашу. Оказывается, уже в три года я обладал четкими вкусами: обожал моцартовский марш и ненавидел полезнейшую размазню. Не знаю, почему им так хотелось, чтобы я вспомнил то, чего для меня не было. И бабушка, и рояль, и манная каша ушли до пробуждения во мне памяти. А «Турецким маршем» озвучились мои школьные годы. Скорее всего моему беспамятству не верили, принимая его за тупое и злостное детское упрямство. А упрямство надо сломать для моего же блага. Они так мне надоели, что я вспомнил музыкальную кормежку, но перестарался, включив в нее фокстерьера Трильби, который обтявкивал мое детство в еще более раннюю пору. Окружающие с грустью убедились, что я не только упрямец, но еще и врун, поскольку Трильби я действительно не мог помнить. Сейчас мне и самому странно, что я так поздно родился для себя. Ведь какой сложной физиологической и психической жизнью я уже жил, общался с близкими, даже сочинил, как мне потом говорили, какие-то идиотские стишки, и при этом словно не существовал.
Так и здесь. Кто-то, вполне вероятно, видел меня юрким головастиком, шустрым Лягушонком – для меня там пустота. Все началось с того мгновения, когда надо мной закачался зеленый лес.
Этим лесом была трава, но прошло какое-то время, прежде чем я смог назвать густую поросль травой, а не лесом. В первые часы и дни после опамятования самое трудное было привыкнуть к невероятным размерам насельников мироздания – так пышно именую я опушку леса, поляну, шоссе, и весеннее озерко, составившее отныне все мое жизненное пространство. Каким все стало огромным: травинки, цветы, крылатые чудовища, в которых так трудно признать знакомых воробьев, ласточек, трясогузок, малиновок, чибисов, ворон.
Невероятно увеличились бабочки, стрекозы, жуки, даже божьи коровки, и все лишь потому, что я стал таким маленьким. Даже некоторые мои сородичи оказались куда крупнее меня, а дальние родственники, серые пупырчатые жабы, обернулись бегемотами. Правда, я открыл для себя неведомый мир дробных существ, которых прежде не замечал в своем человеческом величии. Трава кишела прыгающими, ползающими, скачущими, летающими малышами, иные были очень красивы и утонченны.
Вначале я тяжело переживал свое умаление. Мне не удавалось доглянуть верхушки деревьев-небоскребов, каждая лужица стала прудом, налитые талыми водами колеи – реками, весенний болотный натек – озером. Особенно угнетала ширь асфальтового шоссе, отделившего лес от озерка, оно казалось бескрайним, и перейти эту ширь, это поле было труднее, чем прожить жизнь. По нему мчались раскаленные грузовики, смрадные мотоциклы, гоняли на велосипедах беспощадные ко всему живому мальчишки.
И все же моя мизерность угнетала меня не так сильно, как может показаться, а главное, не так долго: до усвоения новых соотношений тел и предметов. Начав играть по изменившимся правилам, я перестал мучиться, ибо – помимо всего прочего – осталось, а частично возникло множество существ куда меньших, чем я сам. И наличие этой крошечной разнообразной и энергичной жизни бодрило, успокаивало.
В ином была непреходящая моя мука и мука тех, кто в новой жизни утратил человечье обличье. Об этом никогда не говорят на тайном языке бессловесных, но я угадывал среди прыгающих, плавающих, летающих, бегающих на четырех ногах таких, кто, подобно мне, был в прежнем существовании человеком, угадывал по страданию, какого не знают живущие впервые или возникшие из растения или зверя. Но я понятия не имею, с помощью какого внутреннего устройства возникало это постижение.

