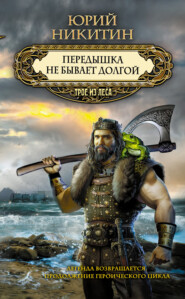По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мне – 65
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Немцы мгновенно оцепили весь район, вытолкали из домов всех, кого обнаружили из мужчин, пересчитали, выбрали из строя двадцать человек и объявили, что расстреляют их из расчета по десять русских за каждого немецкого солдата, если… партизаны не объявятся.
Партизаны, конечно же, не объявились, и всех двадцатерых расстреляли. Самое удивительное для жителей Журавлевки было в том, что в число двадцати попал и настоящий немец, что приехал в нашу страну восемь лет тому и работал здесь главным инженером на заводе.
Несмотря на его мольбы, офицер, руководивший расстрелом, ответил хоть и с сочувствием, но непреклонно:
– Закон есть закон. Мы не можем вас ни отпустить, ни заменить другим, потому что это будет… нечестно. Пусть эти русские видят, что немцами правит закон. И этот закон мы несем по всему миру.
После расстрела двадцати жителей ближайших к базару домов партизанская активность прекратилась полностью.
Почему-то я не терпел оставаться один дома. Чтоб не оставляли, шкодил в квартире, хватал кружку и разливал по комнате воду. А теперь, когда у нас щенок, он точно так же шкодит, настойчиво добивается, чтобы не оставляли одного. Наверное, тот же инстинкт?
Пол усыпан сухой шелухой от подсолнечника, аппетитно пахнет маслом. Дед смолит дратву, я помогаю, это умею: нужно вытягивать из клубка особо толстую такую нитку, что почти уже веревка, а не просто нитка, и, держа ее натянутой, водить по ней куском смолы, прижимая с силой, так что дратва постепенно врезается в эту черную блестящую глыбу, похожую на удивительный драгоценный камень. Если тереть в одном месте, то нитка прорежет пополам, как нож прорезает масло, но, конечно же, никто так не делает. Я тоже тру в разных местах, а дедушка следит, чтобы серая, как бечевка, дратва становилась черной и блестящей, просмоленной. В этом случае не размокнет, не перетрется и не лопнет, а башмаки, подшитые этой дратвой, будут носиться до тех пор, пока не сотрется подошва.
Центральное место в доме занимает, понятно, печка. И по размерам она едва ли не пятая часть, а то и четверть от всего пространства, сложенная умелыми печниками из красного кирпича. Сверху плита из чугуна на две или три конфорки, а сбоку одна или даже две духовки. В духовках пекут хлеб, пироги, куличи, пряники.
В торце две дверки: большая сверху и маленькая, поддувало, снизу. В большую закладываются дрова и нижнюю приоткрывают когда настежь, а когда чуть-чуть, чтобы «поддувало» снизу, тянуло воздух, тогда в верхней камере разгорится лучше. Но приходится регулировать, нельзя, чтобы прогорело чересчур быстро. Огонь должен быть именно таким, чтобы не выше и не ниже нужного.
Конечно, прежде чем положить дрова в топку, сперва нужно выгрести то, что осталось от вчерашнего, то есть подставить старое «угольное» ведро и выгребать из печи «жужалку», – спекшийся шлак, – поднимая тучи пепла и золы.
На улице за сараем этот шлак тщательно просеивают через крупноячеистое сито, отбирая несгоревшие частицы дерева и угля. Они снова пойдут на топку, это добавка к дровам, а полностью бесполезный шлак можно высыпать зимой на дорожку к колодцу.
Затем в освободившуюся и прочищенную топку закладываются дрова. Сперва самые мелкие и сухие лучиночки, кусочки бумаги, потом покрупнее, между ними оставляется пространство, чтобы проходил воздух, иначе не загорится, затем поленца потолще.
Поджигается первая лучинка, ждем, пока все разгорится, сверху кладем еще дрова, уже самые толстые, по мере того, как проседает сгорающая мелочь, и в завершение – сыплем уголь поверх этих толстых поленьев. Когда огонь дойдет до них, жар в печи будет уже достаточным, чтобы начал гореть и уголь. От угля уже настоящий жар, толстая чугунная плита начинает светиться сперва багровым, вишневым, а потом уже алым светом.
Как во всяком доме, возле печи – жара, а возле окон холод. Чтобы выглянуть на улицу, прикладываешь палец к покрытому ледяными узорами окну и ждешь, когда протает. Если же хочешь получить красивые ровные дырочки, то греешь на печи пятаки и прикладываешь их, так получаются ровные красивые «глазки».
К вечеру все взрослые внимательно следят, чтобы в печи прогорело, не оставалось ни единого дымящего комочка, слишком много соседей угорали, поспешив перекрыть заслонку. И вот когда в печи остается только ровный красный уголь, заслонку перекрывают, и все тепло отныне не улетучивается через трубу, а остается в печи, а значит, и в доме.
Еще позже на печи уже можно сидеть, но сперва, правда, подстелив под себя множество толстых тряпок, иначе не усидишь. Это такое блаженство, когда сидишь на тепле, свесив ноги, лузгаешь семечки, и все так хорошо, покойно!
По комнате скачет веселый козленок, подпрыгивает и бодает в подошвы, требует, чтобы я слез и поиграл с ними.
Не слезу, играть можно целый день, а на печке посидеть удается только поздно вечером.
Дед часто уходит в села на заработки, мастер на все руки: и плотник, и столяр, и сапожник, и шорник, умеет печи класть и вообще может дом построить от «фундаменту» до трубы на крыше. Однако и на селах везде бедно и голодно: немцы проходят волнами и всякий раз выгребают «масло-яйки», забивают кур и гусей, вообще всю домашнюю живность, вплоть до кроликов, уводят коров и коней.
По его возвращении в доме всегда пахнет давно забытым салом. На столе появляется тарелка, куда дед льет густое подсолнечное масло, бабушка сыплет соль – крупные серые кристаллики, похожие на льдинки, и мы начинаем есть лакомство, макая ломти черного хлеба.
Немцы ушли, две недели в городе безвластие, точно так же, как и при отступлении наших войск. Народ растаскивает все, что бросили немцы. Особым спросом пользуется мыло, многие бабы натаскали целые ящики, однако мыло оказалось каким-то странным, мылится совсем мало. Вернее, совсем не мылится. Знатоки объяснили, что это не мыло, а очень похожий на мыло тол, взрывчатка такая.
Нашим родственникам по линии бабушки, Евлаховым, несказанно повезло: удалось наткнуться на брошенные или забытые ящики консервов! Торопливо расхватали, с великими трудностями притащили из Старого города к себе на окраину, на Журавлевку, а вечером с торжеством открыли первую банку. Собралась вся семья с ложками, вилками. Открыли и… заорали дурными голосами. Бабы разбежались, зажимая рты, а Евлахов, мужественный человек, взял банку и, отворачивая голову, отнес к мусорной яме: лягушачьи лапки! Одни лягушачьи лапки – и больше ничего! Вспомнили, что в городе стояла итальянская дивизия, это все от них, проклятых лягушатников. Да лучше с голоду помереть, чем лягушек есть…
Традиционно выждав пару недель, опасаясь засады, в город вступила Красная Армия. Говорят, что это во второй раз. Первый раз вошли нищие и ободранные, одна винтовка на троих, пулеметы везли на коровах, а сейчас и вооружение намного лучше, и танки идут рядом. Дедушка сказал знающе, что на этот раз город уже не сдадут. Техника не хуже немецкой, а воевать наши научились.
Бабушка постоянно белит стены. Разводит толченый мел в ведре с водой, тщательно перемешивает, а потом макает в него широкую щетку и тут же, оставляя крупные капли на полу, мажет ею по стене. Новый слой мела покрывает старый, исчезают потертости, копоть, а также мои рисунки дедушкиным столярным карандашом. Я не помню, с двух или трех лет я научился рисовать, но мне кажется, что рисовал всегда.
Стены, по моему представлению, от частого беления все время сужаются, скоро станет тесно… Прислониться нельзя, выпачкаешься в мелу. Прежде чем выйти на улицу, каждый тщательно осматривает себя в зеркало со всех сторон: не задел ли где стену? Не прикоснулся ли? Все же можно было увидеть на улице человека, у которого то плечо в мелу, то локоть, то задница. И от мальчишек на улице не случайно постоянно слышится: дяденька, у вас вся спина сзади!
Подразумевалось как бы, что в мелу, и дяденька тут же начинал вертеться, пытаясь увидеть собственную спину, а когда обнаруживал, что спина чиста, ему невинно объясняли, что спина у него в самом деле сзади.
Бабушка обычно будила меня к завтраку, говорила наставительно:
– Проснулся? Доброе утро…
– Доброе утро, – отвечаю я.
– Нет, – поправляет она терпеливо. – Нужно отвечать «Утро доброе». Слова переставлять, понимаешь?
– Зачем?
Она некоторое время мажет стену щеткой, макая в ведро с разведенным мелом, не зная, что ответить на такой трудный вопрос, наконец повторила наставительно:
– Утром нужно говорить «Доброе утро», днем – «Добрый день», а вечером «Добрый вечер». Запомнил?
– Да, бабушка.
– Отвечать же надо, обязательно поворачивая слова в обратном порядке. А это запомнил?
– Ну, ага… а как это?
– «Утро доброе», «День добрый», «Вечер добрый». Понял? Запоминай. Если кто на «Добрый день» ответит тоже «Добрый день», то это неуважительно и даже оскорбительно, понял? Это значит, что ты не слушаешь того, кто с тобой поздоровался, не обращаешь внимания, а сказал что-то просто для того, чтобы звук издать…
– Хорошо, бабушка.
– Смотри, не путай, – сказала она строго. – Это вон даже жиды знают! На «Шолом Алейхом» отвечают – «Алейхом шолом», а вон Абдулла говорит «Салям алейкум», а мы ему отвечаем «Алейкум салям»… Запомнил?
– Запомнил, бабушка…
– Не забывай. Со взрослыми нужно быть вежливым.
Огромный двор, заросший странным необычным лесом, что выше меня втрое-впятеро, и я пробираюсь между толстыми влажными стволами, устраиваю там шалашики, убежища, гнезда, как иногда устраивают куры или гуси, что не желают нестись в курятнике и делают себе тайные гнезда, где откладывают яйца и пытаются их высиживать.
Дедушка принес двух огромных удивительных зверей, их называли трусами, лишь через несколько лет я узнал, что их зовут еще и кролями. Потом завели кур, уток, гусей, купили козу, что принесла веселых игривых козлят.
Потом – мелких подвижных поросят, что очень быстро вырастали в больших толстых свиней. Эти свиньи обычно лежат в сарае в холодке, но иногда гуляют по двору и роют норы, стараясь подрыться под сарай или под забор. А вот куры, гуси и утки свободно ходят на улицу. Я видел их только во дворе, это весь мой мир, лишь со временем я научился становиться на скамеечку и смотреть через забор на другой мир: огромный, пугающий, чужой, где ходят другие.
По улице ездят на скрипучих телегах, на подводах, подковы звонко цокают по булыжной мостовой, вылетают и быстро гаснут крохотные острые искорки. Когда лошадь останавливалась, возчик подвязывал ей к морде мешок с овсом, уходил, а она неспешно жевала, время от времени встряхивая головой, чтобы подбросить мешок и поймать в нем широкими мягкими губами зерна.
Иногда конский хвост поднимался горбиком, вываливались желтые тугие каштаны, некоторые разбивались о землю, другие расклевывали налетевшие воробьи, спеша добраться до еще теплых, непереваренных зернышек. На мостовой такие каштаны, расклеванные или нет, постепенно высыхали, рассыпались, проседали между неровно торчащими булыжниками, теряя цвет и сливаясь с серой землей.
Телеги двигаются по вымощенной неровной брусчаткой улице. Она тоже называется Журавлевкой, а от нашего дома уже – Дальней Журавлевкой, так что наш дом на этой улице первый, но под номером вторым, чего я долго не мог понять, пока бабушка не объяснила про четные и нечетные стороны.
Иногда по улице проезжает машина. Они делятся на легковые и грузовые. Легковые – это «эмки» и «победы», а грузовые – полуторки и «студебеккеры». «Студебеккеры» вскоре исчезли, а полуторки еще долго ездили по улице. Потом появились трехтонки, чудовищно огромные и сильные машины, на которых уже можно было перевозить до трех тонн груза.
Вечерами женщины собираются в комнате у бабушки. Кто прядет, кто штопает, но все таинственными голосами говорят о ведьмах, что перекидываются черными кошками и ходят доить чужих коров, о домовых, что начали шкодить уж чересчур, а это не к добру.
Нюра дрожащим голосом поведала про черного человека с вот такой головой, что среди ночи садится ей на грудь, ну прямо дохнуть низзя, и смотрит красными глазищами. А тетя Василиса рассказала, что вчера она наконец решилась спросить воющего в трубе домового: к добру или к худу?