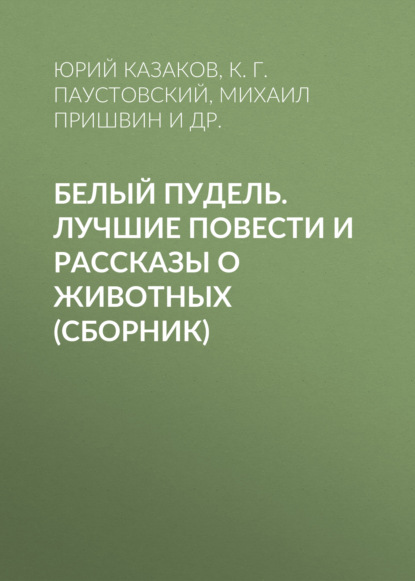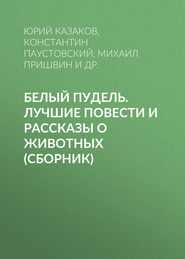По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белый пудель. Лучшие повести и рассказы о животных (сборник)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По случаю экзаменов заботы о собирании бабочек были оставлены, да к тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился с старшими братьями Панаева, с которыми прежде всегда был очень дружен; один из них, именно старший, так меня обидел каким-то грубым и дерзким словом, что я вспылил и в горячности дал торжественное обещание не быть у них в доме до тех пор, покуда виноватый предо мною товарищ не попросит у меня прощения. Панаев (Николай) и не думал просить у меня прощения, и я целую неделю к ним не ездил. Друг мой, Александр Панаев, бывал у меня почти каждый день и своими известиями о старших братьях только усиливал мое оскорбление. Мне было особенно досадно на Ивана Панаева, нашего первого лирика; он был прекрасный товарищ, добрый и правдивый, очень меня любил, в семье своей он считался главным – и он не заступился за меня, не заставил брата извиниться передо мною, а еще его оправдывал. Но великие события именно совершаются тогда, когда всего менее можно ожидать их, и мгновенно разрубают крепко затянутые узлы, которые без того не скоро, а может быть, и никогда, не были бы распутаны.
В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их перед обедом; почему? для чего? – и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера… Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника… Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки – и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове – и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как исступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» – и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич знал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычайности события, что он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, – дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, – надо долго еще учиться; ну куда тебе на службу!» Стук подкатившихся дрожек перервал поучительную речь Евсеича, и через минуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к Панаеву. Я живо представил себе его удивление и радость, особенно потому, что мы с полчаса как расстались. Долгим днем показалась мне четверть часа езды до Панаева. Вот он, наконец, белый, засаленный, хорошо знакомый дом. Вбегаю на крыльцо, на лестницу, отворяю дверь в залу и вижу друга моего Александра Панаева, выбегающего из гостиной с окровавленным лицом, зажавшего один глаз рукою… «Что с тобой?» – закричал я. «Я пропал, – с отчаянием отвечал Панаев, – брат Петя нечаянно попал мне в самый зрачок глаза фарфоровым верешком. Если я окривею – я застрелюсь. Я бегу к колодцу, чтобы обмыть мой глаз холодной водой». Мы побежали вместе. Панаев так боялся увериться, что глаз у него испорчен, что красота его погибла (он действительно был красавец), что не вдруг решился отнять руку и промыть раненый глаз; я упросил его это сделать, и к великой моей и еще большей его радости, я увидел, что рассечена только нижняя века и слегка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей, который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказало, и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, – отвечал я, – на этот раз сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с полчаса как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он…» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями последовали за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розовой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», – сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, – никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудовольствия между нами, они упрашивали меня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Кавалером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!
Пословица говорит: «Пришла беда – отворяй ворота», – что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (Ligustri) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузняке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней – верхние темно-серого цвета, с белыми пятнами или матово-белые с темными пятнами: я потому говорю или, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья – красные, как будто кровяные, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, – это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее ночною. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.
На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! – говорил он нам. – Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойди-ко достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»
Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! – говорил он. – Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.
Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым – в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жили их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось[21 - Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.], да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение – также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадью. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении – это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так, что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, был ли у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню… Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, – это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, что бы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, – так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопияли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно… стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить, и ночевать в поле; с ними были и удочки, и даже ружье, – мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.
Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце… Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.
Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение… Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? – говорил он, улыбаясь. – А ведь лошадки-то, поглядеть, – дрянь! Да ты не боишься ли?» – продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русскою песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слыхал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? – сказал Евсеич. – Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». – Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти беспрерывною, то и креститься перестали… Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы, и ничтожность, беззащитность человеческой природы так явно изобличались и чувствовались мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь, и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья – солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, – говорил Евсеич, – а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! – говорил он, – кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублев, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды: в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.
На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», – прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно вглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыродился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?
Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слыхал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожиданное мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.
Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнию. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услыхал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собираний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.
Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить – не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковом! Там были река, огромный пруд, купанье, уженье и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по нескольку штук; я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов! молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых – я и теперь не знаю, потому что он в лет стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастию, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже середи дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах дерев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки[22 - Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (Liparis Salicis).]. Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (Huperanthus). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темно-сизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя – признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светло-бурые, а задние – желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища[23 - Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.]. Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, – и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светло-бурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял вверх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле, и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокровато, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светло-коричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать[24 - Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев, я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».]. Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у Подалириуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастия отуманила меня… Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.
Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то есть Подалириуса и Махаона.
Имея в руках Блуменбаха, Озерецковского и Раффа (двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса – Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга; но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Блуменбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности, подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, желтые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям, вырезаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же – цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синею же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме у?же Махаона. Для меня он даже красивее.
Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окны были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгоним незваную гостью. Но, вглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать»… – все расхохотались, и мать, знавшая мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, огромнейшую и чудеснейшую, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и приманивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине, как о великой редкости, наслышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание: «Ночная бабочка Павлин (Pavonia) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина[25 - Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.] и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с меленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Испод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки? обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледно-пунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру[26 - Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.]; если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.
Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белою бумагою, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его довезти до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночку и не поспать!
Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись подержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется, с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды, и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров, – я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», – и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». – «Ну, так показывайте», – сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» – возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, – сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, – после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» – прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать – это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (Polichloros), по Блуменбаху, значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая денная бабочка, которую с грехом пополам мы назвали Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темно-синими блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперек черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, хорошего, то есть яркого темно-красного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, находилось по белой лунке, или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смородинную Геометру (Grossulariata), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнушками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (Се 1еrio); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям[27 - Бабочка эта, то есть Сфинкс, Се 1еrio, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.]. Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (Stellatarum), по необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не могли.
Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили нумера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.
Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попалось нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и бледнее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.
В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.
В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Друг мой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей – он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже худощавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков – пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.
Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только бог терпенья дожить до него и сил – пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории – ничего не знаю.
Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть – иначе я не могу назвать ее – ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции… но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обстановлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, – благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.
Москва, Петровский парк, 1858 год, 21 июля
Иван Тургенев
Муму
В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.
Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо в Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.
Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, – взяли, поставили на вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его: даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбаках, – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.
Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.
Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, – был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.
– А что, Гаврила, – заговорила она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.
– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.
– Да; только кто за него пойдет?
– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.
– Кажется, ему Татьяна нравится?
Гаврила хотел что-то возразить, да сжал губы.
– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?
– Слушаю-с, – произнес Гаврила и удалился.
Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.
Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинкой на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли – вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.
Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь… право!..»
Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»
Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?
– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!
Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.
– Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила, – ну, на кого ты похож?
Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.
– А что-с?
– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.
В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их перед обедом; почему? для чего? – и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера… Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника… Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки – и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове – и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как исступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» – и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич знал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычайности события, что он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, – дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, – надо долго еще учиться; ну куда тебе на службу!» Стук подкатившихся дрожек перервал поучительную речь Евсеича, и через минуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к Панаеву. Я живо представил себе его удивление и радость, особенно потому, что мы с полчаса как расстались. Долгим днем показалась мне четверть часа езды до Панаева. Вот он, наконец, белый, засаленный, хорошо знакомый дом. Вбегаю на крыльцо, на лестницу, отворяю дверь в залу и вижу друга моего Александра Панаева, выбегающего из гостиной с окровавленным лицом, зажавшего один глаз рукою… «Что с тобой?» – закричал я. «Я пропал, – с отчаянием отвечал Панаев, – брат Петя нечаянно попал мне в самый зрачок глаза фарфоровым верешком. Если я окривею – я застрелюсь. Я бегу к колодцу, чтобы обмыть мой глаз холодной водой». Мы побежали вместе. Панаев так боялся увериться, что глаз у него испорчен, что красота его погибла (он действительно был красавец), что не вдруг решился отнять руку и промыть раненый глаз; я упросил его это сделать, и к великой моей и еще большей его радости, я увидел, что рассечена только нижняя века и слегка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей, который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказало, и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, – отвечал я, – на этот раз сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с полчаса как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он…» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями последовали за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розовой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», – сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, – никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудовольствия между нами, они упрашивали меня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Кавалером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!
Пословица говорит: «Пришла беда – отворяй ворота», – что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (Ligustri) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузняке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней – верхние темно-серого цвета, с белыми пятнами или матово-белые с темными пятнами: я потому говорю или, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья – красные, как будто кровяные, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, – это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее ночною. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.
На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! – говорил он нам. – Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойди-ко достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»
Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! – говорил он. – Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.
Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым – в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жили их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось[21 - Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.], да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение – также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадью. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении – это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так, что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, был ли у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню… Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, – это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, что бы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, – так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопияли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно… стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить, и ночевать в поле; с ними были и удочки, и даже ружье, – мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.
Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце… Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.
Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение… Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? – говорил он, улыбаясь. – А ведь лошадки-то, поглядеть, – дрянь! Да ты не боишься ли?» – продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русскою песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слыхал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? – сказал Евсеич. – Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». – Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти беспрерывною, то и креститься перестали… Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы, и ничтожность, беззащитность человеческой природы так явно изобличались и чувствовались мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь, и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья – солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, – говорил Евсеич, – а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! – говорил он, – кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублев, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды: в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.
На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», – прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно вглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыродился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?
Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слыхал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожиданное мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.
Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнию. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услыхал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собираний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.
Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить – не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковом! Там были река, огромный пруд, купанье, уженье и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по нескольку штук; я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов! молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых – я и теперь не знаю, потому что он в лет стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастию, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже середи дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах дерев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки[22 - Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (Liparis Salicis).]. Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (Huperanthus). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темно-сизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя – признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светло-бурые, а задние – желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища[23 - Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.]. Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, – и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светло-бурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял вверх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле, и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокровато, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светло-коричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать[24 - Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев, я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».]. Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у Подалириуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастия отуманила меня… Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.
Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то есть Подалириуса и Махаона.
Имея в руках Блуменбаха, Озерецковского и Раффа (двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса – Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга; но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Блуменбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности, подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, желтые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям, вырезаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же – цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синею же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме у?же Махаона. Для меня он даже красивее.
Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окны были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгоним незваную гостью. Но, вглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать»… – все расхохотались, и мать, знавшая мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, огромнейшую и чудеснейшую, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и приманивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине, как о великой редкости, наслышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание: «Ночная бабочка Павлин (Pavonia) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина[25 - Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.] и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с меленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Испод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки? обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледно-пунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру[26 - Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.]; если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.
Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белою бумагою, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его довезти до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночку и не поспать!
Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись подержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется, с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды, и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров, – я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», – и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». – «Ну, так показывайте», – сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» – возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, – сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, – после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» – прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать – это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (Polichloros), по Блуменбаху, значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая денная бабочка, которую с грехом пополам мы назвали Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темно-синими блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперек черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, хорошего, то есть яркого темно-красного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, находилось по белой лунке, или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смородинную Геометру (Grossulariata), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнушками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (Се 1еrio); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям[27 - Бабочка эта, то есть Сфинкс, Се 1еrio, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.]. Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (Stellatarum), по необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не могли.
Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили нумера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.
Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попалось нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и бледнее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.
В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.
В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Друг мой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей – он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже худощавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков – пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.
Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только бог терпенья дожить до него и сил – пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории – ничего не знаю.
Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть – иначе я не могу назвать ее – ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции… но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обстановлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, – благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.
Москва, Петровский парк, 1858 год, 21 июля
Иван Тургенев
Муму
В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.
Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо в Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.
Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, – взяли, поставили на вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его: даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбаках, – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.
Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.
Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, – был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.
– А что, Гаврила, – заговорила она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.
– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.
– Да; только кто за него пойдет?
– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.
– Кажется, ему Татьяна нравится?
Гаврила хотел что-то возразить, да сжал губы.
– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?
– Слушаю-с, – произнес Гаврила и удалился.
Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.
Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинкой на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли – вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.
Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь… право!..»
Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»
Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?
– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!
Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.
– Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила, – ну, на кого ты похож?
Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.
– А что-с?
– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.