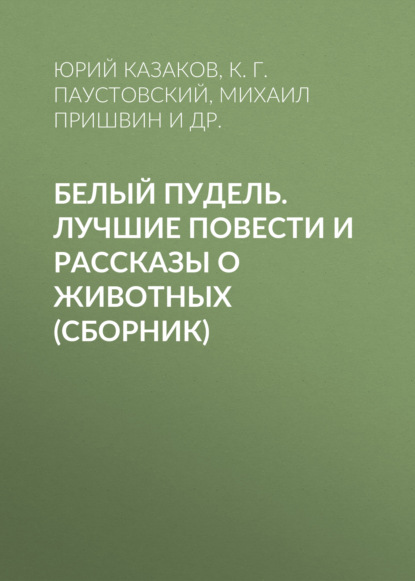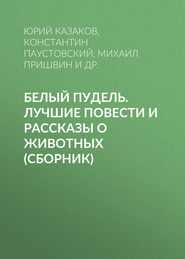По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белый пудель. Лучшие повести и рассказы о животных (сборник)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?
И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких черных уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.
За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле.
Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.
У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!
Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:
– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно…
Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие…
И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать спокойное величие души!..
Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»
А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.
Встал с постели Коля, худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.
Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»
И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.
Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно – почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?
Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.
Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животное – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.
Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.
И еще. Был у нас знакомый непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.
«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»
Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.
Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мной из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.
И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:
– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.
– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.
– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.
– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна.
– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.
– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.
В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:
– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.
Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.
Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».
Вот и все про Ю-ю.
Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.
Рыжие, гнедые, серые, вороные…
I
Илья Бырдин
Он невысокого роста, но строен, прям и крепко сложен. Серые глаза его посажены несколько близко к носу, но в них зоркость и смелость. Движения точны и гибки. Руки у него маленькие, но, даже при обычном осторожном пожатии, чувствуются их тугая упругость, сталь (вспомните толстовского троечника Балагу).
Он прекрасный собеседник; рассказ его жив, быстр и в меру насыщен содержанием. Только у русского, очень, совсем, насквозь русского человека, говорящего о своем привычном и любимом деле, можно заметить такую точность определений и чистоту языка, такую сжатую свободу речи и легкую послушность необходимых слов. Разговор с ним тем еще приятен, что он мало говорит о себе и совсем ничего о своих успехах на ипподроме; разве вытянешь из него насилу-насилу… Так, не от него, а из спортивного французского журнала, из статьи Little Driver’a я узнал о замечательном рекорде нашего славного наездника, который в продолжение одного бегового дня взял в семи заездах семь первых призов. Явление почти невозможное, особенно если вспомнить, что знаменитый французский жокей Парфреман, прозванный на пелюзе «le crocodile» за ту неистовость, с которой он пожирал призы, пространство и своих соперников, взял однажды только пять первых призов в шести дневных скачках.
Благодаря этой-то личной скромности рассказ наездника так значителен и занимателен. Это история русского коневодства и коннозаводства, это история русского рысака от старинных великих орловцев Сметанки и Барса до чистокровных и чистопородных хреновских, наконец, до нынешней метизации голубой орловской крови с сухой и терпкой кровью американского рысака; это история великих охотников рысистого бега.
Первый, кого вспоминает Николай Кузьмич, это московский лошадиный барышник Илья Бырдин. Во времена Бырдина мой наездник еще и не родился на свет Божий, а мне, пишущему эти строки, было тогда лет пять-шесть, не более, но имя Бырдина я успел удержать в своей московской памяти. Кроме торговли конями, Бырдин держал свой собственный завод и пускал лучших лошадок на бега, не так ради денег, – призы тогда были игрушечные, – как из честолюбия.
– Москва, – говорит Николай Кузьмич, – усесистая Москва, совсем особенный город. Даже не город, а отдельное, ни на что не похожее государство: путаное, смешное, причудливое, черт знает какое широкое, иногда трогательное, иногда жестокое, но все-таки великое! Все друг друга знали. Любого извозчика вы могли бы в наше время спросить: кто первый в Москве по голосу и по красоте служения протодьякон? Вам ответят без запинки – Шаховцев. Кто главный кулачный боец? – Никита Плешкин. – У кого лучшая голубиная охота? – У Сережки Вязьмитинова в Малом Голутвенном, что за Москвой-рекой. – В чьем трактире курить не дозволяется и соловьи в клетках? – У Егорова в Охотном. – Чей церковный хор поет умилительнее прочих? – Хор Сахарова. – У кого самые вкусные расстегаи? – Ну, конечно, у Тестова, а калачи – у Филиппова. – Кто первый мастер устраивать народные гулянья, балаганы на Девичьем, фейерверки и ледяные горы? – Обязательно Сергей Шмелев. Так и Бырдина знала вся Москва, как непревосходимого ценителя и знатока лошадей.
Николай Кузьмич говорит, что его он не застал, но много ему о Бырдине рассказывал Алексей Федорович Шереметев, бывший лейб-гусар, промотавший очень много состояний, отличный скакун в стипль-чезе и на гиппических конкурсах, а на старости лет предавшийся целиком беговой охоте.
Бырдин был старообрядец, ходил в поддевке, сапоги бутылками, волосы острижены под горшок. Ни для кого не менял своей манеры. Надо сказать, что в те времена рысистой лошадью начали заниматься даже и большие господа. После братьев Орловых был какой-то перерыв. А потом снова заинтересовались. Что-то вроде патриотизма было, или случайная мода подошла.
Тогда только что заводил беговую конюшню молодой граф Воронцов. Бега в ту пору были, извините за выражение, примитивные. Происходили они не на Ходынке, а на Пресне, на пресненских прудах, что против Зоологического сада. Не было тогда ни сулков, ни американок, ни оберчеков, ни бандажей, ни наглазников; летом гонялись на дрожках, зимой на легоньких санках.
Вот граф Воронцов возьми и влюбись в одного бырдинского жеребенка-трехлетка. Пристал к Бырдину без короткого – продай да продай. Давал две тысячи; по тому наивному и первобытному времени – сумма огромная. Бырдин – нет. Граф разгорячился: десять тысяч. – Нет! Рассердился граф: – сам назначай цену. Отвечаю. – Тогда этот упорный козел, Бырдин, говорит ему спокойно и, – как всем он всегда говорил, – говорит по-московски, на «ты»:
– Видишь ли, граф: ты и молод, ты и красив, и многим взыскан от Бога, и государь к тебе ласков, и богат чрезвычайно, и женщинами любим. На кой ляд тебе мой жеребенок? Ведь это каприз у тебя, не больше? А для меня эта лошадка – моя последняя, единая радость. Давай, брат, разойдемся лучше по-хорошему и останемся приятелями. Жеребенка же не продам.
И граф понял, укоротился. Потом друзьями стали. Много Бырдин ему дельными советами помог по устройству завода.
И еще: по рассказу А. Ф. Шереметева, замечательно принял Бырдин на своем заводе государя императора Александра Второго. Царь любил лошадей и знал в них толк. Но все-таки как любитель, как, извините за выражение, дилетант, он предпочитал серых в яблоках. Самая нарядная, но и самая ненадежная масть. В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым, и к игреневым.
И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких черных уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.
За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле.
Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.
У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!
Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:
– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно…
Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие…
И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать спокойное величие души!..
Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»
А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.
Встал с постели Коля, худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.
Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»
И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.
Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно – почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?
Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.
Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животное – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.
Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.
И еще. Был у нас знакомый непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.
«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»
Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.
Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мной из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.
И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:
– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.
– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.
– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.
– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна.
– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.
– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.
В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:
– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.
Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.
Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».
Вот и все про Ю-ю.
Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.
Рыжие, гнедые, серые, вороные…
I
Илья Бырдин
Он невысокого роста, но строен, прям и крепко сложен. Серые глаза его посажены несколько близко к носу, но в них зоркость и смелость. Движения точны и гибки. Руки у него маленькие, но, даже при обычном осторожном пожатии, чувствуются их тугая упругость, сталь (вспомните толстовского троечника Балагу).
Он прекрасный собеседник; рассказ его жив, быстр и в меру насыщен содержанием. Только у русского, очень, совсем, насквозь русского человека, говорящего о своем привычном и любимом деле, можно заметить такую точность определений и чистоту языка, такую сжатую свободу речи и легкую послушность необходимых слов. Разговор с ним тем еще приятен, что он мало говорит о себе и совсем ничего о своих успехах на ипподроме; разве вытянешь из него насилу-насилу… Так, не от него, а из спортивного французского журнала, из статьи Little Driver’a я узнал о замечательном рекорде нашего славного наездника, который в продолжение одного бегового дня взял в семи заездах семь первых призов. Явление почти невозможное, особенно если вспомнить, что знаменитый французский жокей Парфреман, прозванный на пелюзе «le crocodile» за ту неистовость, с которой он пожирал призы, пространство и своих соперников, взял однажды только пять первых призов в шести дневных скачках.
Благодаря этой-то личной скромности рассказ наездника так значителен и занимателен. Это история русского коневодства и коннозаводства, это история русского рысака от старинных великих орловцев Сметанки и Барса до чистокровных и чистопородных хреновских, наконец, до нынешней метизации голубой орловской крови с сухой и терпкой кровью американского рысака; это история великих охотников рысистого бега.
Первый, кого вспоминает Николай Кузьмич, это московский лошадиный барышник Илья Бырдин. Во времена Бырдина мой наездник еще и не родился на свет Божий, а мне, пишущему эти строки, было тогда лет пять-шесть, не более, но имя Бырдина я успел удержать в своей московской памяти. Кроме торговли конями, Бырдин держал свой собственный завод и пускал лучших лошадок на бега, не так ради денег, – призы тогда были игрушечные, – как из честолюбия.
– Москва, – говорит Николай Кузьмич, – усесистая Москва, совсем особенный город. Даже не город, а отдельное, ни на что не похожее государство: путаное, смешное, причудливое, черт знает какое широкое, иногда трогательное, иногда жестокое, но все-таки великое! Все друг друга знали. Любого извозчика вы могли бы в наше время спросить: кто первый в Москве по голосу и по красоте служения протодьякон? Вам ответят без запинки – Шаховцев. Кто главный кулачный боец? – Никита Плешкин. – У кого лучшая голубиная охота? – У Сережки Вязьмитинова в Малом Голутвенном, что за Москвой-рекой. – В чьем трактире курить не дозволяется и соловьи в клетках? – У Егорова в Охотном. – Чей церковный хор поет умилительнее прочих? – Хор Сахарова. – У кого самые вкусные расстегаи? – Ну, конечно, у Тестова, а калачи – у Филиппова. – Кто первый мастер устраивать народные гулянья, балаганы на Девичьем, фейерверки и ледяные горы? – Обязательно Сергей Шмелев. Так и Бырдина знала вся Москва, как непревосходимого ценителя и знатока лошадей.
Николай Кузьмич говорит, что его он не застал, но много ему о Бырдине рассказывал Алексей Федорович Шереметев, бывший лейб-гусар, промотавший очень много состояний, отличный скакун в стипль-чезе и на гиппических конкурсах, а на старости лет предавшийся целиком беговой охоте.
Бырдин был старообрядец, ходил в поддевке, сапоги бутылками, волосы острижены под горшок. Ни для кого не менял своей манеры. Надо сказать, что в те времена рысистой лошадью начали заниматься даже и большие господа. После братьев Орловых был какой-то перерыв. А потом снова заинтересовались. Что-то вроде патриотизма было, или случайная мода подошла.
Тогда только что заводил беговую конюшню молодой граф Воронцов. Бега в ту пору были, извините за выражение, примитивные. Происходили они не на Ходынке, а на Пресне, на пресненских прудах, что против Зоологического сада. Не было тогда ни сулков, ни американок, ни оберчеков, ни бандажей, ни наглазников; летом гонялись на дрожках, зимой на легоньких санках.
Вот граф Воронцов возьми и влюбись в одного бырдинского жеребенка-трехлетка. Пристал к Бырдину без короткого – продай да продай. Давал две тысячи; по тому наивному и первобытному времени – сумма огромная. Бырдин – нет. Граф разгорячился: десять тысяч. – Нет! Рассердился граф: – сам назначай цену. Отвечаю. – Тогда этот упорный козел, Бырдин, говорит ему спокойно и, – как всем он всегда говорил, – говорит по-московски, на «ты»:
– Видишь ли, граф: ты и молод, ты и красив, и многим взыскан от Бога, и государь к тебе ласков, и богат чрезвычайно, и женщинами любим. На кой ляд тебе мой жеребенок? Ведь это каприз у тебя, не больше? А для меня эта лошадка – моя последняя, единая радость. Давай, брат, разойдемся лучше по-хорошему и останемся приятелями. Жеребенка же не продам.
И граф понял, укоротился. Потом друзьями стали. Много Бырдин ему дельными советами помог по устройству завода.
И еще: по рассказу А. Ф. Шереметева, замечательно принял Бырдин на своем заводе государя императора Александра Второго. Царь любил лошадей и знал в них толк. Но все-таки как любитель, как, извините за выражение, дилетант, он предпочитал серых в яблоках. Самая нарядная, но и самая ненадежная масть. В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым, и к игреневым.