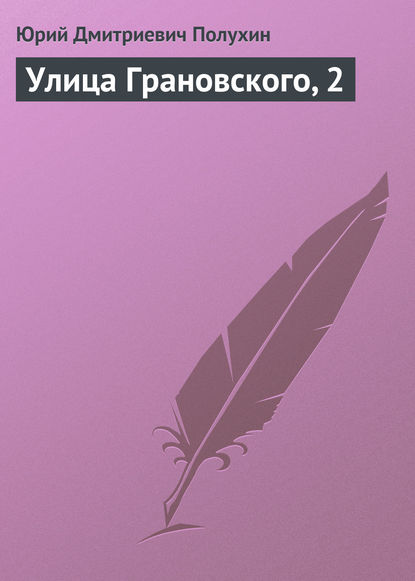По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Улица Грановского, 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Его это почему-то развеселило. Заулыбался. Но опять не стал строить догадки, а точно обозначил черту, за которой начинались факты.
– Насчет Панина не скажу: что он на следствии говорил? – не знаю. Потому что вообще-то он тогда молчал. У него бывает, знаете, – молчит месяцами. Ни с кем – ни слова. Он тоже ведь не простой человек. Так вот, он тогда молчал… А заварил кашу – это уж точно – Штапов, был такой кадровый начальник у нас. Вот он-то и написал заявление. Я почему знаю: Штапов этот подпоил двух экскаваторщиков и тоже уговорил их заявление настрочить – мол, Токарев вредительством занимается. Сорок восьмой год… А мы тогда только затащили на стройку, высеко в горы три экскаватора. Дороги там узенькие, по-над пропастями – жуть! И просто физически, по ширине своей не пройти экскаваторам по этим дорогам. Так Токарев дал команду – он тогда только-только главным механиком стал, из рядовых стройбата – сразу главным механиком! – приказал разрезать автогеном рамы экскаваторные пополам, чтоб можно было затащить их на грузовики. Привезли, а потом опять сварили, – лучше новых. Анекдот!.. Ну вот, а один экскаватор все ж таки стоял без работы: допотопный, паровой еще, американский – «Марион», труба, как у самовара, и никак мы не могли на него подобрать знающего машиниста. Вот этим-то Штапов и козырнул: вредительство, технику умышленно портят! Его уж давно заусило на Токарева: как это помимо его-то воли из солдат человек и сразу в главные механики – по произволу, по недомыслию, дескать, начальника стройки Пасечного Семена Нестеровича, тезки моего.
А может, и под самого Пасечного он копал – не знаю…
О-о, Штапов тогда чувствовал себя и богом, и воинским начальником – на коне! И сам весь такой выхоленный, откормленный – гусь лапчатый. Вот ведь тоже интересно – правда? – в чем человек свою вечность чувствует?
Вечность, незыблемость. Вопросец!.. Тогда-то Штапову, конечно, казалось: что Токарев? – картонный, ткни его – упадет. А Штапов не ткнул – ударил! И других настропалил. Но тут вмешался совсем уж непонятный начальнику кадров человек: Панин – чуть не инвалид, безработный, какой-то генетик бывший, – без пяти минут двенадцать. И вдруг все повернулось! Экскаваторщики, проспавшись, свое заявление у Штапова отобрали и даже темную ему устроили.
Тут я рассмеялся. И Ронкин счел должным пояснить:
– Нет, сам-то я в темной не участвовал, нет. Я, вы ж видите, – он кивнул в темноту, где лежали мертвые утки, – несентиментальный, но вот бить кого-то – не могу. Рука не поднимается… Да и утки эти… – Он поморщился и вдруг спросил: – Вы в магазин заходили в поселке? Полки видели?.. Ну вот, жрать-то надо, а у меня пацан на руках. Ладно, не о том речь! Короче говоря, дело повернулось так, что Токарев в крайкоме партии прямо вопрос поставил: или меня выгоняйте со стройки, или доносчика, клеветника Штапова, – вместе нам не жить! И потребовал партийного разбирательства. Сплошное безрассудство вроде бы, отчаянность!.. Штапов ржал – как конь сивый. Все ему смешно было; наверно, казалось: разыгрывают его. Вот сейчас он еще пальчиком ткнет! – и все на свои места встанет, и ляжет, и опрокинется. Он и еще один ключ подобрал – этот уж прямо к Пасечному: за то, что скупал тот в совхозах продукты и рабочим раздавал, припаял ему Штапов «нарушение карточной системы», организацию «черной кассы». Смертельный вроде бы ход!.. И что вы думаете? – погорел Штапов, совсем погорел! Ну, конечно, тут главную-то скрипку сыграл Пасечный, – это был мужик мудрый…
– Почему «был»? – спросил я.
– Умер. Два года назад. Сердце, – сухо пояснил Ронкин и вдруг, без всякого перехода заговорил об ином: – Корсаков – тоже сердечник был, вообще… не из богатырей. Не знаю, как дотянул до сорок пятого.
Может, потому только, что рисовал. Да я-то с ним даже и знаком не был. А так – ходили эти рисунки, и фамилию слышал. Только потом узнал, что он и листовки гравировал, подпольные, печатал. Через эти листовки Токарев был с ним связан, на нем он и погорел.
– Кто?
– Токарев. В сорок четвертом Корсакова перебросили в один из филиалов Зеебада – блатной такой лагеришко, вроде дома отдыха у нас считался, – какие-то сенокосилки они в мастерских делали, на железнодорожной станции шестерили, и охрана полегче…
Ронкин помолчал и пояснил с вызовом:
– Перебросили с помощью чехов в шрайбштубе, чтоб спасти. У него тогда уже началась дистрофия.
– Что это – шрайбштубе?
– В комендатуре – специальный отдел. По-нашему говоря, писари. Чехи, как правило, знали немецкий, вот их и вынуждены были держать там. Они нам много помогли… Так вот, Корсаков из этого филиала связался с нашими угнанными – не заключенные, а пацаны, женщины с Украины, Белоруссии, которых пораздали всяким куркулям, помещикам, в сельском хозяйстве работать: косилки и это – там все перепуталось, и Корсаков вроде и среди угнанных сумел подполье создать, к восстанию готовился, как и мы в Зеебаде. А тут подогнали чуть не к самым нашим воротам две дивизии «СС», и Токарев дал отбой. Он ведь был начальником военного сектора в интернациональном штабе, это вы знаете?
Я кивнул, Ронкин вдруг усмехнулся – нехорошо както, вымученно.
– Вот и Корсаков это знал. И потребовал личной встречи с Токаревым. Иначе, мол, свое отдельное восстание подниму, самостийное. А как только Токарев вышел на связь с ним, их обоих и взяли. И – в карцер.
Пытали Токарева, чудом он выжил, потому только, что наши войска подошли, и немцы погнали нас всех на запад: кто говорил – в Дахау, кто – на корабли, и в море топить… Знаменитая «дорога смерти» – «тотенвег».
Пристреливали тех, кто не мог идти. Через каждую сотню метров, а то и чаще остались ребятки лежать в полосатых своих куртках, как шлагбаумы.
– А Корсаков?
– Да вот в том-то и дело: его почему-то оставили в лагере. Берегли?.. В пустом лагере. Почему?.. И почему он встречи требовал именно с Токаревым, не верил связным? И почему взяли их?.. Темная какая-то история.
Ею тогда же занимались особисты. Но так, по-моему, ничего и не выяснили.
– А Токарев что говорит?
– Вот вы у него и спросите! – зло сказал Ронкин. – Я сколько лет его знаю, а об этом не спрашивал. Есть вопросы, которые не задают. А вы их все время подкидываете!
Жалобно, протяжно прокричал кулик вдалеке. И тут же прошуршала быстрыми крыльями невидимая в черном небе утка. Ронкин вздохнул и сказал завистливо:
– Ишь бреет – над самой осокой. Если б вечером так… Между прочим, у Корсакова сестра была, младшая, – примирительно добавил он.
Я все же еще спросил:
– А ее – тоже не пробовали отыскать?
– Зачем? – спросил он устало. – Ну, найду я ее и что скажу? Мол, братец у вас был, темный какой-то тип.
Так?.. Да и вряд ли она жива: девчонка, ленинградка, блокадница. Где ее и искать-то?
Он лег на брезент, поджал ноги, двинул зимнюю матерчатую шапку на лицо. И стал совсем маленьким.
– До войны участвовал Корсаков в каких-нибудь выставках? – спросил я.
– Не знаю, – голос под шапкой прозвучал сдавленно. – Подремать надо хоть часика два. Подниматься до света нам…
Часа в четыре тропинкой, которую мог во тьме угадать только Ронкин, мы вышли на луг. Я понял, что это луг по тому, какой колкой стала скошенная трава под ногами – даже сквозь резиновую подошву чувствовалось. И тут же чуть впереди приметил смутное серое пятно – стог. Ронкин сказал:
– Становитесь у стога, за ним спрятаться проще.
Она как раз тут пойдет – из болота к реке. На взлете ее и караулить… Стреляли когда влет, нет?.. Стволы сверху ведите, и как ее тень, – он упорно не хотел произносить слово «утка», – под стволы подлетит – не накрывать стволами, нет! – как под них подлетит только, – бейте! – как раз с дробью встретится… А я правее пойду, чтоб лужок этот с двух сторон оседлать.
Кругом-то вода, – бывает, убьешь и не достанешь без собаки. А тут – полный порядок будет… Вон там сейчас небо сереть начнет, над горизонтом, – он показал рукой, голос у него был сиплый спросонок, – на этой полоске и ловите тени… Ну, ни пуха!
– К черту! – ответил я.
Он ушел. Шаги его долго еще посвистывали резиной по росной, тугой траве – как по снегу. И затихли. Я привалился плечом к стогу.
Ни одной звезды не было на небе – плотная чернь со всех сторон. Хотелось спать. Я закрыл глаза. Изморозь подбиралась сыро под рукава, за воротник, к плечам. Запахнулся получше. Сено похрустывало сухо и громко, душно пахло. Может, еще прошлогодний стожок? Трудно его отсюда вывезти… Вспомнилась протока с водорослями под днищем лодки, расчесанными на пробор… Голова покруживалась – покруживалась. От тишины? Бессонной ночи? Или совсем уж невпроворот эти концлагерные были-небыли? – девочка, дважды умершая, Ронкин, воскресший из-за того только, что – еврей, и Корсаков: дал силу своими рисунками людям и их же – предал?.. Бредовый мир. Темень-то какая! – безнадежная.
Не знаю, сколько я так простоял.
Но вдруг вдалеке крикнула хрипло одна кряква, за нею тут же – вторая, и куличок просвистел. Я открыл глаза. Вроде так же темно было, но воздух порыхлел будто.
Теперь уже птицы перекликались беспрестанно. И какая-то прошуршала крыльями быстро, я услышал ее только за спиной, за стожком. Утка?.. Не чувствуя тяжести ружья, поднял его, повернулся, – ну точно, небо, еще черное, над самой-то землею, там, вдали, будто разваливалось хлопьями. И так – минуту, две, а потом, наоборот, эти хлопья слипаться стали во что-то – нет! – не светлое, а зыбкое еще, но можно было теперь угадать, где встанет солнце. А потом забродили над горизонтом смутные отблески. Небо бывает таким вот, когда ночью выбираешься из лесу к далекому еще поселку или городу и вдруг увидишь сперва неясные дальние всполохи, которые лишь постепенно набирают силу и тревогу – одновременно: отсветы уличных огней. Они кажутся неуместными и будто беду предвещают, как зарево над дальним пожаром, который не потушить.
И тут опять справа и слева прозвенели крыльями уТКИ| – теперь уж точно они! – жадно, стремительно.
И пошло, и пошло!..
Они летели, а я их не мог увидеть еще, и кричали со всех сторон. Я заметался вокруг стожка. И вдруг на самом склоне неба увидел маленькую тень, она быстро шла прямо на меня, не поднимаясь, чуть не над самой землей, лишь увеличиваясь. Вскинул ружье, концы стволов тоже показались мне тенью. И тут справа будто рядом совсем, по другую сторону стожка, грохнуло, – Ронкин! И я тоже нажал курок. Своего выстрела я както не услышал, а уж только мгновеньем после него долетел до меня тоненький свист какой-то; метрах в двух от стожка что-то гулко, как мяч, ударило об землю.
Я шагнул, наклонился, роса на острых будыльях травы была холодной, но рука почти тут же споткнулась о гладкие, сухие перья. Утка лежала, раскинув недвижные крылья.
Прикосновенье это было неприятным, и я отшатнулся, не стал поднимать ее.
Но некогда было думать о своих чувствах. Да и тени на небе, которые теперь скользили беспрестанно, были просто тенями – не больше. Они над самой головой только оживали, жадно хлопая крыльями, но это уж те, которые миновали меня, ушли к другому краю лужка, к Ронкину. Там грохали выстрелы. Лишь изредка они отдавались высоко в небе эхом, протяжным, раскатистым, и вокруг меня что-то мелко стучало о землю, как капли дождя, который только-только расходится.