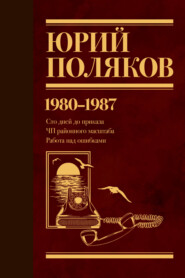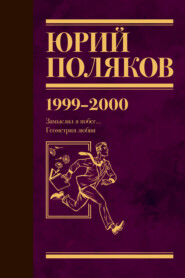По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гипсовый трубач. Дубль два
Автор
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Афросимова, старательно хмурясь, спросила свидетеля, брал ли он деньги за работы, имитирующие разные этапы копирования «Сикстинской мадонны». Получив отрицательный ответ, она предъявила ему липовый договор с поддельной подписью Бесстаева, выслушала объяснения, дала завизировать протокол: «с моих слов записано верно», отметила повестку и отпустила восвояси, испытав сердечное облегчение оттого, что этот опасный мужчина исчез из ее жизни. А ночью, лежа в постели, в одинокой близости от Никиты, пахшего дешевыми медсестринскими духами, она вспоминала седого моложавого красавца, приходившего к ней на допрос.
Фил Бест, воротясь в свою студию, располагавшуюся в пентхаусе на Москворецкой набережной, тоже не мог успокоиться, дивясь тому, что всегда скорый и дерзкий с женщинами, он не решился даже намекнуть обворожительной прокурорше о своем интересе. А ночью ему приснилось, будто он пишет портрет Афросимовой в полный рост. Она стоит в своей строгой синей форме на ступенях белоснежной лестницы, ее лицо бесстрастно, как у мраморной Фемиды, но в огромном венецианском зеркале сбоку отражается тем временем совсем иная Афросимова, там, в серебре амальгамы, видна обнаженная Афродита, и ее длинные темные волосы вольно разлились по голым плечам. И лицо у той, зеркальной, Афросимовой такое, такое… Но вот лица-то он так и не смог рассмотреть.
Наутро Бесстаев, окрыленный тем, что им повелевает теперь не зажравшееся либидо, но высокий художественный замысел, набрался храбрости, позвонил прокурорше и заявил, что имеет сообщить следствию ряд важных подробностей, упущенных во время первого допроса. Повторно вызванный в прокуратуру, Фил Бест радостно показал, что не только не получил гонорар за бутафорские копии Рафаэля, но даже холст, краски, кисти и подрамники приобрел на личные сбережения. Афросимова, записывая показания, отметила про себя, что свидетель сегодня одет в очень идущий ему терракотовый твидовый пиджак с замшевыми налокотниками, по цвету точно совпадающими с умело повязанным шейным платком. Уходя, Бестаев остановился, обернулся и робко поинтересовался, что, мол, Антонина Сергеевна делает в воскресенье днем или вечером? Железная Тоня посмотрела на него так, как если бы отъявленный рецидивист в ответ на вопрос суда, признает ли он себя виновным, запел из-за решетки контртенором арию Керубино из «Свадьбы Фигаро». Когда же дверь за ним закрылась, она вслух назвала себя дурой.
Получив отказ, самолюбивый Бесстаев не находил себе места, он чувствовал, что в его сердце, похожем на зимний скворечник, проснулись какие-то весенние птичьи шевеления.
– Грачи прилетели! – усмехнулся писатель.
– Будьте добрее, коллега, и читатель к вам потянется! Фил без колебаний выгнал из своей студии, выходящей окнами на Кремль…
– На Москву-реку, – с деликатной язвительностью поправил Кокотов.
– А Кремль, по-вашему, на какой реке стоит, на Ганге?! – рявкнул Жарынин, провожая взглядом промчавшуюся по встречной полосе в сторону столицы машину ГА И с включенным проблесковым маячком. – Разбираться поехали. Может, скоро тронемся. На чем я остановился?
– На Ганге.
– Да. Итак, он без сожаления выгнал из пентхауса трех молодых натурщиц, с которыми жил в непритязательном групповом браке, и затосковал, даже запил, но, к счастью, вспомнил, что солдатская массовка в фильме, тоже заложенная в бюджет, на самом деле не стоила Гарабурде ни копейки. Один генерал, чью дочку-вгиковку Самоверов-средний взял в эпизод, дал в полное распоряжение съемочной группы мотострелковый полк с приданным взводом химической защиты. Чтобы довести до следствия эту чрезвычайную информацию, художник снова позвонил Афросимовой, но она грустно сообщила, что дело у нее забрали и теперь надо звонить старшему следователю прокуратуры Гомеридзе Шалве Ираклиевичу.
Надо признаться, вокруг «Скотинской мадонны» происходили тем временем удивительные события. Самоверов-средний, тоже побывавший в кабинете Железной Тони, заявил вдруг «Нашей газете», что с ним явно сводят счеты за то, что в фильме без прикрас изображены будни советских спецслужб, того же СМЕРШа. Тотчас возбудились правозащитники и накатали телегу в Евросуд. Карлукевич-старший в интервью «Шпигелю» вспомнил о том, как, будучи студентом Литинститута, во время гонений на космополитов ежеминутно ждал ареста, и, хотя не дождался, осадок в душе остался на всю жизнь! И вот теперь, на старости лет, ему снова довелось увидеть тоталитарный оскал российской государственности. И за что? За честную правду о злодеяниях Красной Армии на оккупированных территориях! Гарабурда-младший, с ног до головы в пушку, скрылся в Америке и оттуда через «Вашингтон пост» объявил: фильм вызвал оскомину у Кремля, так как в нем содержится прозрачный намек на перемещенные художественные ценности, которые новая Россия, продолжая недобрые традиции Совдепии, скрывает от просвещенного человечества в секретных хранилищах. Германия воспряла духом и снова занудила о реституции. «Скотинскую мадонну» запросили для конкурсного показа Каннский, Берлинский и Венецианский фестивали. Госдеп дал понять, что прием России в престижную международную организацию напрямую зависит от того, как сложится судьба трех отважных кинематографистов.
Кремль долго терпел, отмалчивался и, наконец, велел оставить жуликов в покое. Себе дороже! Гомеридзе дело закрыл, получил золотую медаль «За беспристрастность» от Почетной лиги американских юристов и, вернувшись на историческую родину, стал министром юстиции Грузии. Чтобы окончательно успокоить возбужденное западное мнение, Карлуковичу-старшему и Самоверову-среднему дали по ордену «Знак почета» за вклад в российский кинематограф, а Гарабурда-младший стал заслуженным работником культуры. Он триумфально вернулся в страну и продюсирует теперь фильм «Кровавый позор Непрядвы» – о том, как Дмитрий Донской, бросив доспехи и полки, трусливо бежал с Куликова поля.
Возмущенная Афросимова, чей дед, как вы помните, лично промокнул в Потсдаме акт о капитуляции Германии, ходила к начальству, написала особое мнение, пыталась пробиться к Генеральному прокурору… «При чем здесь политика? Это же обычное хищение государственных средств!» – возмущалась она. Тщетно! Впрочем, это случилось позже. А в тот день, услышав, что прокурорша не при делах, оробевший как школьник Бесстаев спросил в трубку:
– А что вы делаете в субботу?
– Теперь уже ничего… – устало отозвалась Железная Тоня.
– Я хочу пригласить вас на вернисаж… – замирая всей своей измученной сердцевиной, проговорил влюбленный Фил Бест.
– А вы хорошо подумали?
– Хорошо.
– Ну что ж, тогда пригласите!
Пробка неожиданно сдвинулась, Жарынин погрозил неосторожной лиловой водительнице пальцем и ювелирно отшвартовался от желтой «тойоты»…
7. Голая прокурорша
Однако, проползя всего метров двести, машины снова встали. Нервничая и поглядывая на часы, Жарынин нехотя, поддавшись на уговоры Кокотова, продолжил рассказ про Железную Тоню, но постепенно увлекся и сам.
…Вернисаж имел место быть в модной галерее «Застенок», в огромном подвале, где, по слухам, в сталинские годы расстреливали приговоренных. На самом же деле прежде здесь располагался тир ДОСААФ. В разных концах длинного, как коридор, выставочного помещения висели два плазменных экрана, на которых бесконечно повторялись два сюжета. На первом экране патлатый парень в джинсах и гимнастерке чекиста тридцатых годов выводил из камеры арестанта, ставил к стенке, вынимал из кобуры наган и стрелял несчастному в затылок – тот падал как подкошенный, брызжа на камеру кровью… На другом экране тем временем происходило нечто противоположное. Вы, коллега, наверное, видели популярные фильмы Би-би-си о живой природе, где показывают, например, муравейник в разрезе или, допустим, внутреннюю жизнь лисьей норы?
– Конечно!
– Так вот, на экране происходил, если так можно выразиться, половой акт в разрезе. Как они это сняли, ума не приложу! Те м не менее было видно, как дрожащий от возбуждения фаллос проникает во влажное пульсирующее влагалище и после нескольких толчков, содрогаясь, бурно оплодотворяет яйцеклетку. И так без конца…
– А вы что, были на той выставке?
– Конечно. Та м я и познакомился с Афросимовой… А посредине, между экранами, высилась полутораметровая куча вставных челюстей, из нее торчала живая человеческая кисть, сложенная фигой. Вот, собственно, и все, если не считать трех обнаженных девиц, разносивших дешевое шампанское. Их молоденькие тела были сплошь покрыты отборными лагерными татуировками, разумеется, смывающимися, а спереди, наподобие фартучков, закрывая главное, висели алые шелковые треугольники с желтой бахромой – советские вымпелы «За ударный труд». Помните, коллега?
– Еще бы! Смешно придумали!
– А чего смешного-то? Ну, висели в кабинете или над станком вымпелы, ну, стояло в парткоме в углу переходящее бархатное знамя с бородатым профилем. Что плохого? Гораздо смешнее, когда у каждого второго чиновника за спиной висит золотая рамочка «Человек года», а у каждого третьего казнокрада – дощечка «Бизнесмен десятилетия»…
– А вы знаете, что Меделянский – человек столетия? – с ревнивым хохотком сообщил Кокотов.
– Ничего удивительного, редкий сквалыга! Но вернемся на вернисаж! Надо ли вам объяснять, что нагие «татушки» были теми самыми, изгнанными из пентхауса групповыми женами Фила Беста. Они внимательно осмотрели зрелую соперницу, одетую в скромный брючный костюм, и презрительно вздернули голые грудки.
– Что это? – тихо спросила Антонина Сергеевна, озираясь и поеживаясь.
– Актуальное искусство! – ответил Бесстаев и, раскланиваясь со знакомыми, пояснил: – Расстрел и зачатие символизируют вечный круговорот жизни.
– А челюсти? – поинтересовался писатель.
– Челюсти – бренность плоти.
– А эти? – кивнула в сторону «татушек» Афросимова.
От ее прокурорской бдительности не ускользнуло странное поведение девиц.
– Эти? Даже не знаю! – соврал художник, понимая, что совершил ошибку, приведя возлюбленную сюда. – Минуточку, Антонина Сергеевна, я познакомлю вас с автором! Мой друг! Большая умница! Лунный талант!
Автором оказался унылый лысый заика в грубом свитере и кожаных штанах, заправленных в высокие десантные ботинки. Он представился, поцеловал даме ручку, но, к удивлению Афросимовой, заговорил не о высоком искусстве, а стал, запинаясь, клацая зубами и дергая головой, жаловаться на галериста Мурата Гильмана, который слупил с него страшные деньги за аренду подвала:
– Л-л-людоед! Фил, у т-тебя в «Лось-б-б-банке» ч-ч-то-нибудь лежит?
– Лежит, – насторожился Бесстаев.
– З-з-забирай! Скоро лопнет.
– Почему?
– Мне в «Лосе» обещали челюсти п-п-проспонсировать! Дорогие оказались, г-г-гады! – актуальщик указал на кучу зубных протезов. – Но в последний момент к-к-кинули, хотя раньше всегда давали денег без з-з-зву-ка. Верный п-п-признак, что банк в-в-валится…
– Так вот почему там фига! – догадалась Антонина Сергеевна.
– Н-нет, – грустно мотнул головой лунный талант. – Это с-символ д-д-духовного сопротивления м-м-мировой энтропии…
– А-а-а… – смутилась прокурорша.
Афросимова, отдавшая жизнь тому, чтобы кнутом закона загонять зло в узкие врата государственного обвинения, вдруг очутилась в совсем ином, странном мире, где люди живут только ради новизны. В этом мире нет ни зла, ни добра, здесь презерватив, надетый на нос Гоголю (работы скульптора Андреева), – отнюдь не мелкое хулиганство (см. УК), а перфоманс, на который слетается дюжина телекамер. А когда Антонина Сергеевна впервые в жизни вошла в огромную, как языческий храм, студию с окнами на Кремль, вдохнула этот неповторимый запах живописной мастерской, увидела прислоненные к стенам незаконченные полотна на подрамниках, у нее закружилась голова. Бесстаев тоже был ошеломлен, обнаружив под строгой прокурорской оболочкой женщину, способную довести его своей нежной неукротимостью до исступления. Он понял, что наконец встретил ту, с которой можно плыть на закат!
Однажды, нежась и тетешкаясь после бурных объятий, он рассказал о своем замысле – написать ее двойной портрет. Поначалу Тоня, с недавних пор совсем не железная, смутилась, даже обиделась, но Фил взял любимую за руку и подвел, обнаженную, к огромному студийному зеркалу. Она внимательно слушала его горячие слова о том, как прекрасно ее зрелое тело, смотрела на свое отражение и, наверное, впервые в жизни поняла, что пышная плоть, которой всегда стеснялась, заслуживает другого, совсем другого! И Тоня согласилась, тем более что Фил пообещал: портрет никто никогда не увидит, полотно останется в мастерской, и это будет их сокровенной тайной. В тот же день Бесстаев встал к мольберту и, обычно скорый на кисть, на сей раз не торопился, наслаждаясь работой и натурщицей.
Каждый день после службы Афросимова приходила в студию позировать, а когда приближалась пора возвращаться домой, Бесстаев уговаривал ее остаться навсегда, переехать к нему и зажить по-семейному. Но она отказывалась, опасаясь оскорбить мужа и потрясти детей. Кстати, Сурепкин ни о чем таком даже не догадывался: жена почти всегда возвращалась из прокуратуры поздно, но его вдруг, после многолетнего равнодушия, страстно потянуло к почти забытому телу Антонины. Она долго отнекивалась, увиливала под разными женскими и общечеловеческими предлогами и наконец, содрогаясь, уступила. Это было ужасно – изменить любимому человеку с мужем!
Фил Бест, воротясь в свою студию, располагавшуюся в пентхаусе на Москворецкой набережной, тоже не мог успокоиться, дивясь тому, что всегда скорый и дерзкий с женщинами, он не решился даже намекнуть обворожительной прокурорше о своем интересе. А ночью ему приснилось, будто он пишет портрет Афросимовой в полный рост. Она стоит в своей строгой синей форме на ступенях белоснежной лестницы, ее лицо бесстрастно, как у мраморной Фемиды, но в огромном венецианском зеркале сбоку отражается тем временем совсем иная Афросимова, там, в серебре амальгамы, видна обнаженная Афродита, и ее длинные темные волосы вольно разлились по голым плечам. И лицо у той, зеркальной, Афросимовой такое, такое… Но вот лица-то он так и не смог рассмотреть.
Наутро Бесстаев, окрыленный тем, что им повелевает теперь не зажравшееся либидо, но высокий художественный замысел, набрался храбрости, позвонил прокурорше и заявил, что имеет сообщить следствию ряд важных подробностей, упущенных во время первого допроса. Повторно вызванный в прокуратуру, Фил Бест радостно показал, что не только не получил гонорар за бутафорские копии Рафаэля, но даже холст, краски, кисти и подрамники приобрел на личные сбережения. Афросимова, записывая показания, отметила про себя, что свидетель сегодня одет в очень идущий ему терракотовый твидовый пиджак с замшевыми налокотниками, по цвету точно совпадающими с умело повязанным шейным платком. Уходя, Бестаев остановился, обернулся и робко поинтересовался, что, мол, Антонина Сергеевна делает в воскресенье днем или вечером? Железная Тоня посмотрела на него так, как если бы отъявленный рецидивист в ответ на вопрос суда, признает ли он себя виновным, запел из-за решетки контртенором арию Керубино из «Свадьбы Фигаро». Когда же дверь за ним закрылась, она вслух назвала себя дурой.
Получив отказ, самолюбивый Бесстаев не находил себе места, он чувствовал, что в его сердце, похожем на зимний скворечник, проснулись какие-то весенние птичьи шевеления.
– Грачи прилетели! – усмехнулся писатель.
– Будьте добрее, коллега, и читатель к вам потянется! Фил без колебаний выгнал из своей студии, выходящей окнами на Кремль…
– На Москву-реку, – с деликатной язвительностью поправил Кокотов.
– А Кремль, по-вашему, на какой реке стоит, на Ганге?! – рявкнул Жарынин, провожая взглядом промчавшуюся по встречной полосе в сторону столицы машину ГА И с включенным проблесковым маячком. – Разбираться поехали. Может, скоро тронемся. На чем я остановился?
– На Ганге.
– Да. Итак, он без сожаления выгнал из пентхауса трех молодых натурщиц, с которыми жил в непритязательном групповом браке, и затосковал, даже запил, но, к счастью, вспомнил, что солдатская массовка в фильме, тоже заложенная в бюджет, на самом деле не стоила Гарабурде ни копейки. Один генерал, чью дочку-вгиковку Самоверов-средний взял в эпизод, дал в полное распоряжение съемочной группы мотострелковый полк с приданным взводом химической защиты. Чтобы довести до следствия эту чрезвычайную информацию, художник снова позвонил Афросимовой, но она грустно сообщила, что дело у нее забрали и теперь надо звонить старшему следователю прокуратуры Гомеридзе Шалве Ираклиевичу.
Надо признаться, вокруг «Скотинской мадонны» происходили тем временем удивительные события. Самоверов-средний, тоже побывавший в кабинете Железной Тони, заявил вдруг «Нашей газете», что с ним явно сводят счеты за то, что в фильме без прикрас изображены будни советских спецслужб, того же СМЕРШа. Тотчас возбудились правозащитники и накатали телегу в Евросуд. Карлукевич-старший в интервью «Шпигелю» вспомнил о том, как, будучи студентом Литинститута, во время гонений на космополитов ежеминутно ждал ареста, и, хотя не дождался, осадок в душе остался на всю жизнь! И вот теперь, на старости лет, ему снова довелось увидеть тоталитарный оскал российской государственности. И за что? За честную правду о злодеяниях Красной Армии на оккупированных территориях! Гарабурда-младший, с ног до головы в пушку, скрылся в Америке и оттуда через «Вашингтон пост» объявил: фильм вызвал оскомину у Кремля, так как в нем содержится прозрачный намек на перемещенные художественные ценности, которые новая Россия, продолжая недобрые традиции Совдепии, скрывает от просвещенного человечества в секретных хранилищах. Германия воспряла духом и снова занудила о реституции. «Скотинскую мадонну» запросили для конкурсного показа Каннский, Берлинский и Венецианский фестивали. Госдеп дал понять, что прием России в престижную международную организацию напрямую зависит от того, как сложится судьба трех отважных кинематографистов.
Кремль долго терпел, отмалчивался и, наконец, велел оставить жуликов в покое. Себе дороже! Гомеридзе дело закрыл, получил золотую медаль «За беспристрастность» от Почетной лиги американских юристов и, вернувшись на историческую родину, стал министром юстиции Грузии. Чтобы окончательно успокоить возбужденное западное мнение, Карлуковичу-старшему и Самоверову-среднему дали по ордену «Знак почета» за вклад в российский кинематограф, а Гарабурда-младший стал заслуженным работником культуры. Он триумфально вернулся в страну и продюсирует теперь фильм «Кровавый позор Непрядвы» – о том, как Дмитрий Донской, бросив доспехи и полки, трусливо бежал с Куликова поля.
Возмущенная Афросимова, чей дед, как вы помните, лично промокнул в Потсдаме акт о капитуляции Германии, ходила к начальству, написала особое мнение, пыталась пробиться к Генеральному прокурору… «При чем здесь политика? Это же обычное хищение государственных средств!» – возмущалась она. Тщетно! Впрочем, это случилось позже. А в тот день, услышав, что прокурорша не при делах, оробевший как школьник Бесстаев спросил в трубку:
– А что вы делаете в субботу?
– Теперь уже ничего… – устало отозвалась Железная Тоня.
– Я хочу пригласить вас на вернисаж… – замирая всей своей измученной сердцевиной, проговорил влюбленный Фил Бест.
– А вы хорошо подумали?
– Хорошо.
– Ну что ж, тогда пригласите!
Пробка неожиданно сдвинулась, Жарынин погрозил неосторожной лиловой водительнице пальцем и ювелирно отшвартовался от желтой «тойоты»…
7. Голая прокурорша
Однако, проползя всего метров двести, машины снова встали. Нервничая и поглядывая на часы, Жарынин нехотя, поддавшись на уговоры Кокотова, продолжил рассказ про Железную Тоню, но постепенно увлекся и сам.
…Вернисаж имел место быть в модной галерее «Застенок», в огромном подвале, где, по слухам, в сталинские годы расстреливали приговоренных. На самом же деле прежде здесь располагался тир ДОСААФ. В разных концах длинного, как коридор, выставочного помещения висели два плазменных экрана, на которых бесконечно повторялись два сюжета. На первом экране патлатый парень в джинсах и гимнастерке чекиста тридцатых годов выводил из камеры арестанта, ставил к стенке, вынимал из кобуры наган и стрелял несчастному в затылок – тот падал как подкошенный, брызжа на камеру кровью… На другом экране тем временем происходило нечто противоположное. Вы, коллега, наверное, видели популярные фильмы Би-би-си о живой природе, где показывают, например, муравейник в разрезе или, допустим, внутреннюю жизнь лисьей норы?
– Конечно!
– Так вот, на экране происходил, если так можно выразиться, половой акт в разрезе. Как они это сняли, ума не приложу! Те м не менее было видно, как дрожащий от возбуждения фаллос проникает во влажное пульсирующее влагалище и после нескольких толчков, содрогаясь, бурно оплодотворяет яйцеклетку. И так без конца…
– А вы что, были на той выставке?
– Конечно. Та м я и познакомился с Афросимовой… А посредине, между экранами, высилась полутораметровая куча вставных челюстей, из нее торчала живая человеческая кисть, сложенная фигой. Вот, собственно, и все, если не считать трех обнаженных девиц, разносивших дешевое шампанское. Их молоденькие тела были сплошь покрыты отборными лагерными татуировками, разумеется, смывающимися, а спереди, наподобие фартучков, закрывая главное, висели алые шелковые треугольники с желтой бахромой – советские вымпелы «За ударный труд». Помните, коллега?
– Еще бы! Смешно придумали!
– А чего смешного-то? Ну, висели в кабинете или над станком вымпелы, ну, стояло в парткоме в углу переходящее бархатное знамя с бородатым профилем. Что плохого? Гораздо смешнее, когда у каждого второго чиновника за спиной висит золотая рамочка «Человек года», а у каждого третьего казнокрада – дощечка «Бизнесмен десятилетия»…
– А вы знаете, что Меделянский – человек столетия? – с ревнивым хохотком сообщил Кокотов.
– Ничего удивительного, редкий сквалыга! Но вернемся на вернисаж! Надо ли вам объяснять, что нагие «татушки» были теми самыми, изгнанными из пентхауса групповыми женами Фила Беста. Они внимательно осмотрели зрелую соперницу, одетую в скромный брючный костюм, и презрительно вздернули голые грудки.
– Что это? – тихо спросила Антонина Сергеевна, озираясь и поеживаясь.
– Актуальное искусство! – ответил Бесстаев и, раскланиваясь со знакомыми, пояснил: – Расстрел и зачатие символизируют вечный круговорот жизни.
– А челюсти? – поинтересовался писатель.
– Челюсти – бренность плоти.
– А эти? – кивнула в сторону «татушек» Афросимова.
От ее прокурорской бдительности не ускользнуло странное поведение девиц.
– Эти? Даже не знаю! – соврал художник, понимая, что совершил ошибку, приведя возлюбленную сюда. – Минуточку, Антонина Сергеевна, я познакомлю вас с автором! Мой друг! Большая умница! Лунный талант!
Автором оказался унылый лысый заика в грубом свитере и кожаных штанах, заправленных в высокие десантные ботинки. Он представился, поцеловал даме ручку, но, к удивлению Афросимовой, заговорил не о высоком искусстве, а стал, запинаясь, клацая зубами и дергая головой, жаловаться на галериста Мурата Гильмана, который слупил с него страшные деньги за аренду подвала:
– Л-л-людоед! Фил, у т-тебя в «Лось-б-б-банке» ч-ч-то-нибудь лежит?
– Лежит, – насторожился Бесстаев.
– З-з-забирай! Скоро лопнет.
– Почему?
– Мне в «Лосе» обещали челюсти п-п-проспонсировать! Дорогие оказались, г-г-гады! – актуальщик указал на кучу зубных протезов. – Но в последний момент к-к-кинули, хотя раньше всегда давали денег без з-з-зву-ка. Верный п-п-признак, что банк в-в-валится…
– Так вот почему там фига! – догадалась Антонина Сергеевна.
– Н-нет, – грустно мотнул головой лунный талант. – Это с-символ д-д-духовного сопротивления м-м-мировой энтропии…
– А-а-а… – смутилась прокурорша.
Афросимова, отдавшая жизнь тому, чтобы кнутом закона загонять зло в узкие врата государственного обвинения, вдруг очутилась в совсем ином, странном мире, где люди живут только ради новизны. В этом мире нет ни зла, ни добра, здесь презерватив, надетый на нос Гоголю (работы скульптора Андреева), – отнюдь не мелкое хулиганство (см. УК), а перфоманс, на который слетается дюжина телекамер. А когда Антонина Сергеевна впервые в жизни вошла в огромную, как языческий храм, студию с окнами на Кремль, вдохнула этот неповторимый запах живописной мастерской, увидела прислоненные к стенам незаконченные полотна на подрамниках, у нее закружилась голова. Бесстаев тоже был ошеломлен, обнаружив под строгой прокурорской оболочкой женщину, способную довести его своей нежной неукротимостью до исступления. Он понял, что наконец встретил ту, с которой можно плыть на закат!
Однажды, нежась и тетешкаясь после бурных объятий, он рассказал о своем замысле – написать ее двойной портрет. Поначалу Тоня, с недавних пор совсем не железная, смутилась, даже обиделась, но Фил взял любимую за руку и подвел, обнаженную, к огромному студийному зеркалу. Она внимательно слушала его горячие слова о том, как прекрасно ее зрелое тело, смотрела на свое отражение и, наверное, впервые в жизни поняла, что пышная плоть, которой всегда стеснялась, заслуживает другого, совсем другого! И Тоня согласилась, тем более что Фил пообещал: портрет никто никогда не увидит, полотно останется в мастерской, и это будет их сокровенной тайной. В тот же день Бесстаев встал к мольберту и, обычно скорый на кисть, на сей раз не торопился, наслаждаясь работой и натурщицей.
Каждый день после службы Афросимова приходила в студию позировать, а когда приближалась пора возвращаться домой, Бесстаев уговаривал ее остаться навсегда, переехать к нему и зажить по-семейному. Но она отказывалась, опасаясь оскорбить мужа и потрясти детей. Кстати, Сурепкин ни о чем таком даже не догадывался: жена почти всегда возвращалась из прокуратуры поздно, но его вдруг, после многолетнего равнодушия, страстно потянуло к почти забытому телу Антонины. Она долго отнекивалась, увиливала под разными женскими и общечеловеческими предлогами и наконец, содрогаясь, уступила. Это было ужасно – изменить любимому человеку с мужем!