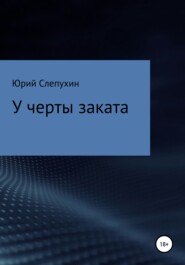По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ничего кроме надежды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Викторовна. И не моя она вовсе, у нее жених в действующей армии.
– Ну, жених, – крестная отмахнулась, – жених – не муж венчанный, что о женихах-то говорить. Да еще в военное время! А имя хорошее. Я думала, в Советах-то оно давно вывелось, не в чести, слыхала, как же, – Писарев-то, поганец, как Таню Ларину расшельмовал, а он же у них там в пророках ходит… А вот и Палашка явилась, – сказала она вдруг, прислушиваясь. – слава те, Господи, она как пойдет по лавкам, так я места себе не нахожу – веришь ли, сколько лет тут со мной по заграницам мыкается, и ни словечка ни на одном языке. С лавочником только по-русски, да еще и коверкает зачем-то – так, говорит, им понятнее. И ведь понимают ее, что ты думаешь. Ну, сейчас кофий пить будет – ежели принесла. Палашка, окаянная, где ты там?
– Иду, иду, – ворчливо послышалось из-за двери. Вошла женщина неопределенного возраста, в темном платье до щиколоток, в шляпке по моде двадцатых годов – таких много можно увидеть каждое воскресенье возле православных храмов и в Праге, и в Париже, и в Брюсселе. Болховитинов, улыбаясь, встал.
– Здравствуйте, Пелагея Васильевна! Не узнаете?
– Ну чего уставилась! – прикрикнула Варвара Львовна. – Стыдно, матушка, барин тебя помнит, ты его – нет. Покойного Андрея Кирилловича, полковника Болховитинова, сынок.
– Как же-с, – Пелагея Васильевна заулыбалась, – как не помнить. Только покойник-то постарше были и при усах.
– Экое тонкое наблюдение, что отец сына старше, – заметила крестная, – ума у тебя палата, как я погляжу. Надо было тебе со своими в Совдепии оставаться, глядишь, уже и государством бы нынче управляла.
– Да ить вы, барыня, без меня бы тут пропали, – возразила Пелагея Васильевна, – кому вы тут нужны и на что вы годитесь.
– Ох Палашка, была ты змеей смолоду, в том же естестве и до старости пребываешь. Кофию-то принесла?
– Нету кофию, к завтрему только обещались. Я уж и к другому-то лавочнику заходила, что на Яновой улице.
– Есть у них, у спекуляторов, да, вишь, придерживают – цену набивают. Ну, что делать, суррогатом потчевать тебя не стану, сама не пью этой пакости. Завтра тогда приходи!
– Боюсь, крестная, завтра уже не смогу – отпуск мой на исходе, – соврал неожиданно для самого себя Болховитинов. – Завтра мне придется по разным присутственным местам, высунувши язык, бегать, бумаги выправлять на обратный проезд.
– Ну гляди, а то остался бы, задержался на недельку. Аль строго у вас с этим?
– Еще бы не строго, время-то военное…
Совравши, он почувствовал себя неловко и, поговорив еще с полчаса о том и о сем, с облегчением откланялся. Странно – то вдруг нестерпимо потянуло рассказать о Тане, а потом – так же внезапно – разговор сделался тягостным, мучительным. Словно ждал получить какое-то утешение и не получил… Потому и соврал, что уезжает; крестная и завтра продолжала бы расспрашивать. Лучше держать в себе, как держал все эти месяцы. Но теперь что же – в самом деле уезжать, раз уж сказал?
Придется, видно. У него оставалась еще неделя отпуска, он рассчитывал провести ее здесь, а теперь придется возвращаться в опостылевший Дрезден. Иначе может получиться неловко – встретит кого-нибудь из общих знакомых, а тот потом ляпнет ненароком крестной – видел, мол, третьего дня Кирилла Болховитинова…
На улице, пока он сидел у Варвары Львовны, похолодало, ветер рвал с каштанов желтые листья, они кружились, словно спеша в последний раз испытать чувство свободы – прежде чем припечататься к мокрому асфальту. Болховитинов поежился, поднял воротник плаща. Черт его тогда надоумил подписать этот проклятый контракт!
Но кто же знал, кто мог предполагать… Тогда, в сорок первом, война выглядела совсем иной (тем более – если наблюдать ее, сидя в Париже), немцы – казались не столько врагом, сколько обычным противником – ну, как в четырнадцатом. И противником, достойным уважения; разгромив более сильную Францию по-цезарски молниеносно – veni, vidi, vici[5 - «Пришел, увидел, победил» (лат.) – знаменитое донесение Юлия Цезаря сенату.], – они на первых порах вели себя в оккупированной стране вполне корректно (о том, что уже тогда творилось в Польше, стало известно значительно позднее). Ему самому воевать пришлось недолго, всего неделю, но то, чего он насмотрелся перед этим, во время постыдного фарса drole de guerre[6 - «Странной войны» (фр.).], не могла укрепить его симпатий к Третьей республике. Нет, он был к ней лоялен и дрался за нее, надо полагать, не хуже других, но не мог не понимать, что войну она проиграла уже заранее, не сделав еще ни одного выстрела, просто не могла не проиграть – такая, какой стала к тому времени – кагуляры, аферисты, разные устрики и стависские, а тут еще лавали и даладье, и бездарное военное руководство во главе с маршалом-пораженцем…
А в немцах – так ему тогда казалось – было, напротив, что-то здоровое. Гитлер, понятно, проходимец, да еще и шут гороховый с этими своими римскими жестами, «мистикой крови» и факельными шествиями, – но чем-то он, очевидно, сумел привлечь нацию, коли она за ним пошла… Вообще вести из Германии до войны приходили разные, разобраться было не просто.
Многим из побывавших в Берлине на Олимпийских играх новая немецкая действительность скорее понравилась: прекрасные дороги, порядок, чистота, полиция безупречно предупредительна, на улицах не видно ни безработных, ни нищих. С другой стороны, было известно, что свободомыслие там не в чести: неугодные нацистам книги публично сжигаются на площадях, а за открыто высказанное несогласие с главой государства можно угодить и на «перевоспитание», в особый лагерь. Подобные факты аттестовали нацистский режим не с лучшей стороны, но Болховитинов склонен был видеть в этом скорее общую тенденцию, так сказать, дух времени, нежели специфический порок национал-социализма. В Советском Союзе, что ли, позволено возражать Сталину? Да и книги неугодные там тоже давно изъяты из обращения, хотя в Москве никто спектаклей с кострами не устраивал – только и разницы…
А иногда ему вообще казалось, что, может, это и правильно. Государство, если оно хочет быть сильным (а быть слабым государству противопоказано, семнадцатый год доказал это в России, а сороковой – во Франции), не должно, наверное, позволять себе излишней терпимости в вопросах внутренней политики. В принципе, конечно, легальная оппозиция нужна, без нее любой режим рано или поздно вырождается в беззаконие; но где границы разумно-допустимого? У нас при последнем государе поносить правительство мог безнаказанно кто угодно – от депутатов Государственной думы до борзописцев из «Сатирикона». Какой-то юмористический журнальчик – отец, помнится, рассказывал – вышел однажды с таким рисунком на обложке: голая задница в российской императорской короне. И что же? – полиция конфисковала тираж, издатель отделался штрафом… А Милюков со своей знаменитой речью «Глупость или измена?»…
В этих вопросах путались до войны не только молодые эмигранты, единого мнения не было и среди старших. Одни считали, что Россию погубили Романовы, другие винили либералов, кадетов, вообще «присяжных поверенных». Как ни странно, большевиков винили меньше – с тех, мол, чего взять, недаром в запломбированном вагоне прибыли…
Полковник Болховитинов споры на эту тему считал пустой болтовней: чем бесплодно копаться в прошлом России, считал он, лучше постараться определить свое отношение к ее настоящему. Сам он относился непредвзято, никогда не был «большевизаном», каковым его некоторые считали, но не разделял и махровой непримиримости «зубров». Кирилл Андреевич потом горько жалел, что разлучился с отцом в тридцать четвертом году, вскоре после смерти матери; отец, возможно, помог бы ему лучше разбираться в жизни. Но уехать из Праги тогда пришлось, для него открывалась возможность поступить в Париже в весьма привилегированное инженерное училище – вообще, туда принимали только французов, но допускался и небольшой процент иностранцев – дети тех, кто имел перед Францией особые заслуги. Поскольку в свое время Болховитинов-старший успел повоевать на Западном фронте в составе русского экспедиционного корпуса и был награжден Большим крестом Почетного легиона, один из его фронтовых друзей, занявший потом при Думерге довольно видный пост в военном министерстве Петена, устроил Кириллу эту протекцию. Пренебречь ею было бы неразумно – уж что-то, а безработица выпускникам Ecole Polytfichnique не грозила.
Они переписывались до самой смерти отца незадолго перед войной, и почти в каждом письме отец делился с ним мыслями о происходящем в России. Оценки, конечно, были приблизительны – вести доходили противоречивые, многое приходилось домысливать; но в целом, считал отец, дела там налаживаются, большевики и впрямь оказались хорошими организаторами. «Может быть, даст Бог, – писал он, – отучат матушку-Русь от исконного нашего разгильдяйства, за одно это многое им можно простить…»
Увидев вывеску знакомой по давним временам корчмы, Болховитинов почувствовал вдруг, что устал и проголодался. Вошел, в маленьком зальце было пусто, через минуту неслышно появился немолодой кельнер. Болховитинов осведомился о здоровье пана Алоиза и, узнав, что пан Алоиз уже два года как преставился, выразил сочувствие и спросил что-нибудь поесть, добавив, что заплатить может рейхсмарками. Кельнер оживился, заговорщицки понизил голос:
– Шпикачки пана устроят? Ну, и хорошее пиво, само собой, из ограниченного запаса – для настоящих клиентов…
Болховитинов огляделся: все было как прежде, в давние времена, когда они захаживали сюда с отцом (каникулы он всегда проводил в Праге).
Да, будь тогда жив отец, возможно, он как-то иначе воспринял бы начало войны. Он ни на миг не допускал возможности окончательной победы Германии, это было исключено; но что советский режим рухнет неминуемо, поверил – довольно скоро, уже где-то в середине июля, когда пал Смоленск. Крах сталинской системы казался неизбежным и закономерным: режим, который накануне войны обезглавил армию, казнив всех талантливых военачальников, – этот режим нес прямую вину за самое страшное военное поражение в истории России. Казалось, какой народ стерпит, не возмутится, не призовет к ответу за миллионы погубленных солдатских жизней… Он был тогда уверен, что это произойдет не сегодня-завтра – скорее всего, с падением Москвы. Появится какое-то новое правительство, условия мира наверняка будут тяжелейшими, немцы своего не упустят, но России ли привыкать к трудностям? Сдюжила и татар, и Смутное время, неужто теперь сил не хватит!
С этой мысли, наверное, все и началось. Сил у отечества должно хватить, но понадобятся они все, искони строилась Русь миром, соборно, – значит, теперь как никогда всем русским надо быть вместе, на своей земле, которую придется отстраивать, подымать из руин и пепелищ небывалого разорения…
В Париже многие тогда засобирались, но по-разному. Одним просто хотелось поклониться родной земле, другие (их, правда, было мало) всерьез верили в то, что немцы допустят эмиграцию к кормилу власти, и уже завидовали генералам-берлинцам Краснову, Бискупскому, фон Лампе – те ближе, могут и обскакать. Иные спешно переводили на немецкий язык и заверяли у нотариусов полуистлевшие в чемоданах акты на владение и купчие крепости, гадая – цела ли брошенная в семнадцатом году усадьба, не снесен ли большевиками родовой особняк на Пречистенке, не угодит ли бомба или тяжелый снаряд в доходный дом на Каменноостровском…
А ему не терпелось поскорее попасть домой, чтобы работать, и казалось, сама судьба безошибочно ведет его куда надо. Случайно ли было, что в Политехническом он попал на строительное отделение, стал гражданским инженером? А та непредвиденная задержка в Дрездене – тоже «случай»?
Отец умер весной тридцать девятого года, когда в Праге уже были немцы, и возможность посетить могилу представилась Болховитинову лишь в сентябре сорок первого. Ехать пришлось кружным путем, через Берлин, с пересадкой там на венский поезд; десятиминутная стоянка н Дрездене почему-то затягивалась, прошло пятнадцать минут, потом двадцать, пассажиры громко возмущались неслыханным безобразием, наконец в купе заглянул кондуктор и объявил, что отправление поезда задерживается на два с половиной часа. «Военные перевозки», – объяснил он многозначительно, понизив голос, и посоветовал дамам и господам выйти в город, прогуляться. Сидеть в душном вагоне и впрямь не было смысла, он вышел, спустился вниз и на привокзальной площади нос к носу столкнулся с Димкой Извольским – когда-то учились вместе в пражской русской гимназии.
Димка, оказывается, уехал тогда в Германию сразу после получения «матуры» – думал учиться дальше, но с этим не вышло, окончил коммерческие курсы и теперь работал в одной строительной фирме агентом на процентах. Зашли в пивную там же, на углу Прагер-штрассе, обменялись воспоминаниями, а потом, под конец разговора – ему уже пора было возвращаться на вокзал – Димка сказал вдруг, что фирма получила крупный подряд через концерн «Централь-Ост» – будет строить дороги на оккупированных территориях Востока и теперь ищет инженеров, желательно со знанием русского языка.
– Слушай, а почему бы тебе не попробовать, а? – спросил он. – Чего тебе там у лягушатников околачиваться? Меня, честно говоря, в любезное отечество не тянет, но ты ведь, помнится, был из патриотов…
Вот так оно и получилось, понимай, как знаешь – судьба или «его величество случай». Неделей позже, вернувшись из Праги, он подписал контракт, зиму провел в Дрездене, знакомясь с работой и подучивая основательно забытый немецкий, а летом сорок второго был уже на Украине.
Но к тому времени все изменилось, ход войны оказался совсем не таким, как можно было предположить год назад. Сталин не только удержался у власти, но и, судя по всему, укрепил свой авторитет. Видимо, к советскому обществу были уже действительно неприменимы старые мерки, какими еще по привычке пользовались в эмиграции.
В Энске он пытался говорить об этом с некоторыми людьми, но безуспешно, его просто не понимали. Сначала – и это было естественно – с ним боялись откровенничать, как-никак он был из эмигрантов, да еще на службе у немцев, потом недоверие постепенно растаяло, но все равно – общего языка по-настоящему не находилось…
Говорить на эти темы было трудно, боялся быть неправильно понятым, показаться этаким свысока судящим иноземцем. Однажды так оно и получилось, когда он – вспомнив один довоенный фильм, где будущая война рисовалась в шапкозакидательских тонах, – выразил недоумение, что подобная ахинея могла восприниматься всерьез. Хозяин дома, похоже, почувствовал себя задетым. Такие фильмы и книги, объяснил он, были нужны и делали полезное дело, все эти годы нам здесь слишком многим приходилось жертвовать, поэтому понятно, что людям нужно было внушать бодрость, веру в свои силы…
Сталина, как ни странно, за катастрофическое начало войны не винил почти никто – говорили о вероломстве Гитлера, о внезапности нападения, это тоже было непонятно: какая «внезапность», какое «вероломство»? Ведь Гитлер с самого начала своей политической карьеры открыто призывал к завоеванию жизненного пространства на Востоке, или советские люди всерьез поверили пакту 39-го года?
Впрочем, особого преклонения перед Сталиным – такого, какое все сильнее ощущалось в радиопередачах из Москвы (он слушал их постоянно), – в оккупированном Энске тоже не было. Не исключено, конечно, что оно скрывалось. «Отца народов» даже поругивали, но больше за прошлое – за раскулачивание, за массовые аресты, хотя и признавали, что кулаки мешали колхозному строительству, а вредителей и оппозиционеров тоже было много – так что некоторых сажали и за дело…
Да, не просто было общаться с соотечественниками, крестная (до чего проницательная старуха!) не зря задала этот вопрос. А он, отвечая, все-таки покривил душой – в Энске ему то и дело приходилось спотыкаться о барьер некоммуникабельности, возникавший вдруг по самому непредвиденному поводу. Но рассказывать об этом не хотелось, могло сложиться неверное впечатление – будто он осуждает тамошних людей. Он не осуждал их, чувствовал себя не вправе судить, он их порой просто не понимал.
Кельнер принес наконец обещанные колбаски и пиво, подошел к бормочущему едва слышно радиоприемнику и усилил звук. Передавали последние известия, сводку ОКБ: в Северной Атлантике подводные лодки продолжают атаковать обнаруженный вчера конвой, потопив еще 5 судов в 76 000 брутто-регистровых тонн, при отражении массированного налета американской авиации на Швейнфурт сбито 62 «летающих крепости», на Восточном фронте войска группы «Юг» ведут тяжелые оборонительные бои в секторе Мелитополь – Запорожье…
Запорожье, подумал Болховитинов, это же совсем недалеко от Кривого Рога… а в Кривой Рог, помнится, он доезжал часа за три. Да, скоро их попрут и оттуда. Возможно, Таня скрывается где-то в тех местах, в одном из окрестных сел. Если староста – приличный человек (такое бывает, ему часто рассказывали), ей вполне могли обеспечить надежное укрытие на несколько месяцев. Но тогда, выходит, ему тоже лучше было уйти в подполье, остаться в Энске до прихода Красной Армии? Вздор, для него этот путь закрыт. Эмигрант, служивший у немцев, – там не стали бы разбираться, в качестве кого. А для Тани, если она действительно там, такое знакомство после освобождения оказалось бы скорее компрометантным.
Как все рухнуло – внезапно, непоправимо… Еще этой весной он был в России, его там приняли, не относились к нему как к чужаку. Танины друзья не отвергли его помощь, а она сама – о, он нисколько не заблуждался на этот счет, с ее стороны не могло быть ничего, кроме короткого увлечения. Когда она попросила не встречаться больше, это не было для него неожиданностью, в сущности, он давно был готов к такому повороту их отношений; Таня – такая, какая была для него, воплощение чистоты и верности, – она просто не могла поступить иначе, и в тот памятный вечер он окончательно почувствовал, что жить без нее не может. Нет, он даже не о том думал, что вдруг жених не вернется и тогда, может быть, – нет, ему было достаточно, что она здесь, рядом, и что он сможет хоть иногда, издали увидеть ее, не попадаясь на глаза… Впрочем, к чему хитрить, наверное, была и надежда – а вдруг все переменится? Вот и переменилось.
Если исключить худшее (о Танином аресте так или иначе стало бы известно, скорее всего, ее привезли бы в Энск, с чего бы немцам делать из этого тайну), если она тогда спаслась, то или прячется в тех же местах, или – это более вероятно – постаралась уйти на восток, навстречу фронту. Здесь, во всяком случае, ее искать бессмысленно. Да и как искать? Во вражеской стране, где все под запретом, все засекречено, где и немец не имеет права свободно поехать куда ему надо по своим делам, – немыслимо, безнадежно, об этом и думать нечего…
Больше шансов найти ее после войны там, в России. Но кто его туда пустит? Разве что изменится политика в отношении «бывших белых» – или их детей хотя бы. Изменилось же там многое за два года войны, крестная права – это все-таки какое-то примирение с прошлым, известный компромисс. По логике вещей, так оно и должно быть, русский солдат умирать привык за Россию, не за какой-нибудь там Третий Интернационал – не зря Коминтерн нынешним летом разогнали, как раз перед Орловско-Белгородским сражением…
Жаль, что наше поколение так неромантично, подумал он, отец рассказывал о ком-то из Болховитиновых, даже не очень давних, времен Отечественной войны, – тот всю жизнь любил замужнюю женщину, издалека, видевшись с нею дважды в жизни. Первый раз на придворном балу, а второй – десять или пятнадцать лет спустя. Имение ее было в Виленской губернии, он нарочно испросил себе какое-то дипломатическое поручение в Париж – для того лишь, чтобы на обратном пути его коляска сломалась где надо и можно было заехать к ней в усадьбу под не вызывающим подозрений предлогом. Так и не женился, и всю жизнь – говорят – был по-своему счастлив своим безответным обожанием. Будь я таким, как тот мой пра-пра, мне тоже должно было бы довлеть одного сознания, что она есть, она где-то живет… Впрочем, ведь нет и этого, вот что самое ужасное. Знать хотя бы, что она тогда действительно спаслась!
Глава третья
Уже позднее, на медсанбатовской койке, разорванно вспоминая все случившееся, Дежнев задним числом понял, что иначе случиться и не могло, и он подсознательно, нутром знал, что так оно и будет. Никто, понятно, не мог предположить, что именно под Александровкой немцы нанесут такой мощный удар с фланга, но что они обязательно попытаются контратаковать именно где-то здесь и теперь – было очевидно. Форсирование Днепра прошло быстро и почти без потерь, но на правом берегу завязались тяжелые бои, тут уже потери были большие, а со снабжением становилось все хуже. Погода, так долго стоявшая сухой и солнечной, в середине октября наконец испортилась, пошли затяжные дожди, а места здесь были черноземные – грунтовые дороги развезло так, что даже «студебекеры» увязали намертво, по самый дифер. В войсках сразу же начала ощущаться нехватка боеприпасов, горючего, продовольствия. Немцам – хотя их рассчитанная на асфальты техника и вовсе не справлялась с бездорожьем – все-таки проще было обеспечить передовую хотя бы боеприпасами, в обороне это всегда проще.
Капитан Дежнев со своей батальонной колокольни не мог, понятно, судить, право ли было командование, требуя не снижать темпов продвижения, или разумнее было приостановиться, подтянуть тылы, восполнить потери – и двинуть дальше с новыми силами. Но что в этих обстоятельствах наступать практически вслепую было нельзя, это и взводному понятно, да что там взводный – любой солдат сообразит, что лучше не переть на рожон, если не знаешь хотя бы приблизительно, что там впереди делается.