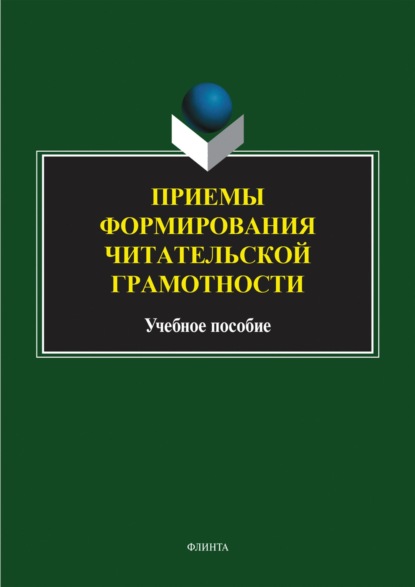По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кюхля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он крякнул и особенно выразительно посмотрел при этом в сторону Пушкина:
– А вам, Пушкин, советую особенно принять это в соображение и встретить Державина пиитическим подарком.
Пушкин болтал в это время с Яковлевым. Услышав слова Галича, он неожиданно побледнел и закусил губу.
Кюхля, напротив, раскраснелся необычайно.
После классов Пушкин стал сумрачен и неразговорчив. Когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал неохотно и почти грубо. Кюхля взял его таинственно под руку.
– Пушкин, – сказал он, – как ты думаешь – я тоже хочу поднести Державину стихи.
Пушкин вспыхнул и выдернул руку. Глаза его вдруг налились кровью. Он не ответил Вильгельму, который, ничего не понимая, стоял разинув рот, – и ушел в свою комнату.
Назавтра все знали, что Пушкин пишет стихи для Державина.
Лицей волновался.
О Вильгельме забыли.
День экзаменов настал.
Пушкин с утра был молчалив и груб. Он двигался лениво и полусонно, не замечая ничего вокруг, даже наталкивался на предметы. Вяло пошел он в залу вместе со всеми.
В креслах сидели мундиры, черные фраки; жабо Василия Львовича Пушкина заметно выделялось своей белизной и пышностью – «шалбер» аккуратно ездил на экзамены и интересовался Сашей больше, чем брат Сергей Львович.
Дельвиг стоял на лестнице и ждал Державина. Надо было давно уже идти наверх, а он все стоял и ждал его. Певец «Смерти Мещерского» – увидеть его, поцеловать его руку!
Дверь распахнулась; в сени вошел небольшой сгорбленный старик, зябко кутаясь в меховую широкую шинель.
Он повел глазами по сторонам. Глаза были белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб, лицо было синеватое с мороза. Черты лица были грубые, губы дрожали. Он был стар.
К Державину подскочил швейцар. Замирая, Дельвиг ждал, когда он начнет подыматься по лестнице. Эта встреча уже почему-то не радовала его, а скорее пугала.
Все же он поцелует руку, написавшую «Смерть Мещерского».
Державин сбросил на руки швейцара шинель. На нем был мундир и высокие теплые плисовые сапоги. Потом он повернулся к швейцару и, глядя на него теми же пустыми глазами, спросил дребезжащим голосом:
– А где, братец, здесь нужник?
Дельвиг оторопел. По лестнице уже звучали шаги – директор бежал встречать Державина. Дельвиг тихо поднялся по лестнице и пошел в залу.
Державина усадили за стол. Экзамен начался. Спрашивал Куницын по нравственным наукам. Державин не слушал. Голова его дрожала, он уставился мутным взглядом на кресла. Жабо Василия Львовича привлекло его внимание. Василий Львович завертелся в креслах и отвесил ему глубокий поклон. Державин не заметил.
Так сидел он, дремля и покачиваясь, подперши голову рукой, отрешенный от всего, рассеянно смотря на белое жабо. Губы его отвисли.
Кюхля с непонятным содроганием смотрел на Державина. Это страшное, с сизым носом, старческое лицо напомнило ему как-то пруд, заросший тиной, в котором он хотел утопиться.
Начался экзамен по словесности.
Галич сказал, запинаясь:
– Яковлев, произнесите оду на смерть князя Мещерского, творение Гавриила Романовича Державина.
Державин снял руку со стола. Губы его сомкнулись. Он вглядывался белесыми глазами в лицеиста.
Яковлев был хороший чтец. Уроки де Будри не пропали для него даром. Он читал, немного завывая, не оттеняя смысла, но налегая на звучные рифмы.
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает.
Державин закрыл глаза и слушал.
Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам, конечно.
Державин поднял голову и слегка кивнул не то с одобрением, не то отвечая на что-то ceбe самому.
– Кюхельбекер.
Вильгельм подошел к столу ни жив ни мертв.
– Отвечайте о сущности поэзии одической.
Вильгельм начал отвечать по учебнику Кошанского, Державин рукой остановил его.
– Скажите, – сказал он разбитым голосом, – что для оды более нужно, восторг пиитический или ровность слога?
– Восторг, – сказал Вильгельм восторженно, – восторг пиитический, который извиняет и слабости и падение слога и душу стремит к высокому.
Державин с удовольствием взглянул на него.
– Простите, – сказал не своим голосом Вильгельм, – дозвольте прочесть стихотворение, Гавриле Романовичу посвященное.
Галич смутился. Кюхельбекер ему ничего не сказал о своих стихах. Нет, это будет опасно. Вероятно, наворотил чего-нибудь.
– Первую строфу, если Гаврила Романович разрешит.
Державин сделал жест рукой. Жест был неожиданно изящный, широкий.
Вильгельм прочел дрожащим голосом:
Из туч сверкнул зубчатый пламень.
По своду неба гром протек,
Взревели бури – челн о камень;
Яряся, океан изверг
Кипящими волнами
Пловца на дикий брег.
Он озирается – и робкими очами