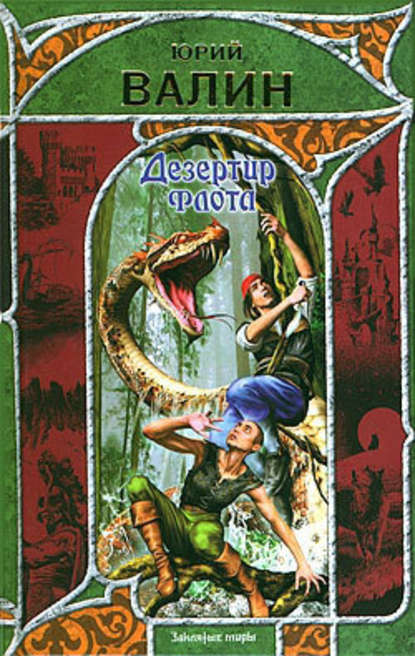По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дезертир флота
Автор
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На икре возле бледной царапины темнел большой волдырь. Кожа возле него вдруг зашевелилась, вздулась. Квазимодо содрогнулся.
Фуа присел на корточки прямо в черную воду. В руках маленького ныряльщика была портняжная игла.
– Я ее прокалил на огне, – сказал фуа.
– Зря, была бы грязная – червячок бы напугался и сам вышел. Они, должно быть, ужасно брезгливые, эти малявки.
Ныряльщик посмотрел на одноглазого парня, понял, что тот шутит, и сам улыбнулся:
– Сами они не выходят. Им в теле хорошо.
– Мне тоже в теле хорошо, – пробормотал Квазимодо. – Только я предпочитаю баб и никогда не влезаю в них целиком. Начинай, иначе не успеем – Глири дальше погонит.
Фуа кивнул, разложил прямо на своем колене несколько шелковистых ниточек-травинок, короткую тонкую палочку и взял парня за ногу.
Шевелиться было нельзя. Квазимодо, замерев, смотрел. Раньше случалось частенько красть изящные женские украшения. Завитушки из паяной серебряной проволоки, крошечные камешки, оправленные в металл, – во многих городах умели делать ювелирные украшения. Но здесь работа предстояла куда тоньше – неощутимыми прикосновениями иглы фуа вскрыл волдырь. Дальше он уже одними ногтями умудрился подцепить кончик извивающегося червя. Очень бережно потянул, прижал к палочке, прихватил ниткой и стал медленно наматывать паразита на деревяшку.
Квазимодо невыносимо захотелось схватить, вырвать палочку, выдернуть мерзкого червя из своего тела. Нельзя. Вор всегда прислушивался к мнению знающих людей. Маленький ныряльщик хотя и не был человеком, но, по-видимому, знал, что и как делать.
Несколько витков красного тонкого тела паразита оказалось намотано на деревяшку. Дальше червь уперся – его тело опасно натянулось.
– Дальше нельзя – порвется, – сказал фуа.
– Понятно, приматывай, – пробормотал Квазимодо.
На бинт он порезал запасную рубашку. Ныряльщик аккуратно прибинтовал палочку вместе с червем к ноге молодого солдата.
На островке уже вовсю разорался Глири, поднимая людей. Квазимодо и маленький ныряльщик торопливо пошли к своему грузу.
Хлюпала под сапогами вода. Здесь было мельче. Иногда под ногами оказывалось почти ровное, без привычного ила, дно. Впереди стучали топоры и клинки прорубавших тропу солдат.
– А он ничего держится, – сказал Квазимодо, кивая на шагающего впереди Филина. Тот шел намного ровнее, чем утром.
– Может, я ошибся, – прошептал фуа. – Может, прижигание помогает. Я этих червей никогда раньше не видел. Только сказки о них слышал.
– В сказках тоже бывает правда. Хотя и немного. Но мне твой способ лечения больше нравится. Разрезанный и подпаленный я бы далеко не ушел. Боюсь только палку с «гостем» зацепить. Ведь оборвется тогда зверек.
– Я хорошо примотал. Не волнуйся.
– Ага. Надеюсь, удержится, иначе придется ножом ковырять. Слушай, ныряльщик, а как тебя зовут?
Фуа коротко глянул:
– Все зовут Жабом. Или Лягушкой. Как кому нравится.
– Ну, все это слишком по-военному. Я не Глири, чтобы людей так именовать.
– Я – не человек, – тихо пробормотал фуа.
– Да я понял. Лапы у тебя непохожие. Хотя когда на нас сотник орет, он различия не делает. Значит – мы одинаковые. Так что нужно тебе имя приличное подобрать. А то ты Жаб, я – Ква-зимодо. С такими именами нам вовек из болота не выбраться.
Фуа улыбнулся:
– В болоте не так плохо. Я больше гор опасаюсь. Я никогда далеко от воды не уходил.
– Я вообще-то в настоящих горах тоже не бывал. Но мои друзья как-то переходили через горы. Огромные – не чета здешним. Ничего – все живы остались. Кроме того, рассказывают, там москитов нету и прочих… мелких зверей.
Ночевать отряд остановился в сухом месте. Кругом росли колючие кусты, кроны деревьев плотно смыкались над головой, духота свинцом давила на виски, но зато можно было садиться прямо на землю, подстелив плащ, а не сгребая под себя все, что попадется под руку.
Костры развели как положено – треугольником. Квазимодо выпала первая стража. Фуа при свете костра занялся ногой товарища – паразит поддался еще на ширину ногтя и снова уперся.
– Завтра он не устоит, – заметил ныряльщик, забинтовывая ногу.
– Главное – чтобы он во мне семью не завел, – пробормотал вор. Он чувствовал себя гораздо спокойнее. Мерзкий червь перестал шевелиться и двигаться под кожей. Временами Квазимодо забывал о своем «жильце».
Заунывно вопила в ветвях какая-то птица. Квазимодо вынул из мешка пойманную под вечер черепаху.
– Посмотри, можно жрать или зря тащил? Мелкая, а тяжелая, мерзавка.
Черепаха ворочала когтистыми лапами и вытягивала острую, украшенную двумя парами рожек голову.
– У нас таких едят, – сообщил фуа, внимательно разглядывая черепаху сверху и снизу. – Считается очень вкусным.
Черепаху запекли в углях.
Квазимодо отщипывал мягкое мясо, измельчал ножом. Неторопливо посасывал за щекой. Болотная жительница действительно оказалась приятной на вкус. Жаль, что небольшая.
На запах подошел солдат, дежуривший у костра на другой стороне лагеря. Квазимодо быстренько сунул остатки черепахи под хворост.
– Что это вы здесь жрете? – жалобно поинтересовался собрат по ночной страже.
– Кусочек давешней змеюки разогрели. Да уже сжевали весь.
– А я ничего не оставил. Живот крутит – то ли от воды местной, то ли от голода.
– На ночь всегда жратву оставлять нужно, – сочувственно закивал Квазимодо. – Ты иди, иди на место. Неровен час Глири проснется. Любит он по почкам «постучать» тому, кто пост оставил.
Часовой ушел. Квазимодо достал остатки деликатеса.
– Нужно было поделиться, – нерешительно прошептал фуа.
– Ага. Добрый ты. Что-то я не заметил, чтобы с тобой кто-нибудь делился.
– Я – лягушка.
– А я – урод. Что я им предлагать буду? Еще побрезгуют. Кстати, что это ты – «я лягушка, я лягушка». Гордишься, что ли? Лягушки дома сидят, а мы премся куда ни попадя.
– Меня старейшины отдали Флоту. За железо и стекло.