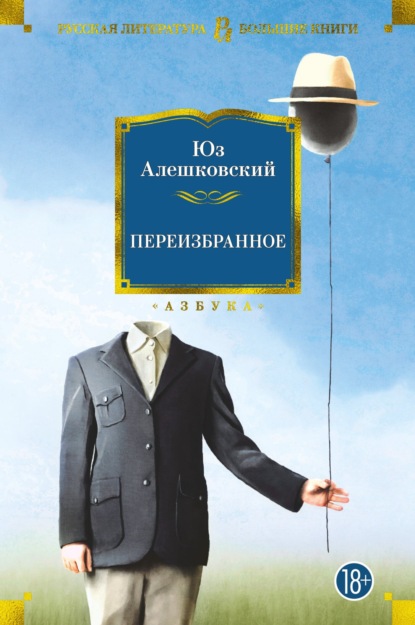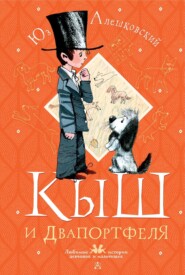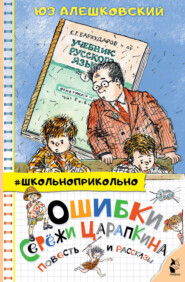По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Переизбранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты, Никита, всегда был дураком, но делаешь большие успехи и, следовательно, становишься идиотом. (Бурный хохот.) Думать надо не об антилопах, а об антисоветских анекдотах, которые гуляют по руководимому тобой объекту, по Москве. Клим, куда я гну?
– Водородная бомба, Иосиф, будет к твоему семидесятилетию.
– Посмотрим, посмотрим. А ты, Шверник, почему губы поджал? Давно орденов никому не вручал? Скучно стало? Я тебе подыщу другую работу! В Министерство мелиорации пойдешь! В твоей приемной – бардак! Плачут женщины и дети! А для тебя их слезы – вода? Вот и займешься мелиорацией. Председатель сраный. Скажи им, Лаврентий, куда я гну. По пенсне вижу, что знаешь. Скажи, не бойся.
– По-моему, ты гнешь к тому, чтобы отменить смертную казнь, – сказал Берия.
– Верно. Гну. Пляши, Никита, от радости. А мы похлопаем в ладоши. Шире круг!
Сплясал Никита, а сам про себя думает: «Ведь зверь, а не человек! Чистый зверь, и рожа дробью помята! Ну, погоди!»
Сталин же пояснил, что он лично никогда не забывает о людях, и пора перестать их расстреливать.
– Расстрелять кого-либо вообще никогда не поздно. Но временно надо это дело прекратить, потому что советские люди первыми в мире строят коммунизм и с непривычки не хотят работать. Опаздывают. Прогуливают. Воруют на всех участках всенародной стройки. Зачем же расстреливать рабочую силу? Разве у нас мало бывших военнопленных и предателей с оккупированных территорий? Вместо того чтобы посылать в урановые рудники Стаханова, – сказал Сталин, – давайте пошлем туда врага. Хватит крови. Давайте превратим кровь в труд. Потому что коммунизм – наше общее кровное дело! А урановая руда, новые ГЭС, заводы, шахты и бомбардировщики – это щит коммунизма. Пусть его куют наши враги. Хватит расстрелов. Нужно работать. Но не нужно путать расстрел и пиф-паф. Ты меня понял, Лаврентий? Давайте мечтать, товарищи, о тех временах, когда мы пересажаем всех врагов и начнем сажать деревья.
В общем, Коля, чего мне было беспокоиться, когда старая падла, член с 1905 года, требовала у мышки-судьи моего расстрела? Отменил Сталин расстрел – и все дела. Но эта ехидна возьми и заяви судье с некоторой даже угрозой:
– По-моему, вы запамятовали, что у нас процесс будущего. Партия, несомненно, рассматривает недавнюю отмену смертной казни как временную меру. В будущем, когда мы выполним народно-хозяйственные планы, расстрел непременно восстановят в правах. Ну что вы, Владлена Феликсовна! И не сомневайтесь, голубушка! На вас прямо лица нет. Давайте его расстреляем! Будущее надо делать сегодня!
– Раз такое колесо, можно и расстрелять. Это нас не лимитирует, – соглашается кирзовая харя.
В зале, Коля, мертвая тишина. Да и сам я, между нами, ни жив ни мертв. Только частушка одна – от кулака в Казахстане я ее слышал – мельтешит в мозгу не ко времени:
Ты не плачь, милая,
Не рыдай, дурочка,
На расстрел меня ведет
Диктатурочка.
Вот, значит, какой оборот ты мне устроил, товарищ Кидалла! Ваша берет. Молчу. Не вертухаюсь. Ваша берет. Надеяться мне не на что. Не войдет в этот зал добрый доктор в белой шапочке и не скажет: «Ну-с, больные, а теперь извольте разойтись по своим палатам. Харитон Устинович Йорк, он же Фан Фаныч, пожалте на выписку. Хватит, батенька, играть в массовый психоз!»
Вот, значит, какой оборот, вот, значит, как кончается на глазах омерзительной шоблы моя жизнь. Кто бы думал, Коля, кто бы думал… А мышка бегает по совещательной комнате, переговаривается с кирзой и старухой. О чем – не слышно, потому что зал хлопает в ладоши и, не переставая, скандирует: «Рас-стре-лять! Рас-стре-лять!»
Вот въехал электрокар, а на нем куча писем и телеграмм суду с личными и коллективными просьбами стереть меня с лица земли. Втолкнули тележку в совещаловку, смрадная старуха просьбы читает, плача от счастья и родства с народом, с партией, с комсомолом, с деятелями литературы и искусства. И кирза читает, и тычут они оба письмами в мышку. А я сижу и гадаю теперь уже о том, каким способом меня уделают: отравят или шмальнут? Думаю: менее хлопотно, если отравят. Затем решаю, что они же не сделают это из гуманных соображений незаметно. Схавал миску перловки – и кранты. Они же обязательно напоследок вымотают тело и душу. Пускай лучше шмаляют, как в старые добрые времена. Только интересно, сижу и соображаю, что я раньше почувствую, пиф-паф или удар в затылок? Соображаю и стараюсь убить в себе нерв жизни, чтобы ничего не вспоминать, не сопливиться, чтобы ни о чем не жалеть, никого не хаять и никого не любить. Скорей бы душа моя улетела из этого грязного, зловонного общежития… На третий день будет первая у нее остановка. Попьет душа чайку на полустанке с мягким бубликом, погрызет сахарную помадку. Никого, ни одной души, кроме моей, не будет в буфете. А на девятый день ты, моя милая, одиноко пообедаешь в холодном кабаке, но борщ будет горячим и баранина с гречневой кашей, как при царе. Ешь, деточка, грейся, лететь тебе еще больше месяца, без единой остановки сорок ден, так что ешь и грейся, киселя попей и закури на дорожку. А вот когда прилетишь на сороковой день, душа моя, неизвестно куда, тогда…
– Су-уд и-и-и-дет! – пропел Максим Дормидонтович Михайлов, и все мы вскочили на ноги. Приговор, Коля! Но читала его не мышка Владлена Феликсовна, она с падлой и кирзой просто стояла за столом, а Юрий Левитан читал:
– Работают все радиостанции Советского Союза! – Я весь треп мимо ушей пропустил. – В том, что он… руководствуясь… Не-ви-но-вен… отпиливании рога носорога… освободить из-под стражи… дело направить на дальнейшее рассмотрение в городах-героях… В преступлении… в ночь… зверски изнасиловал и убил… граната-лимонка… материалами дела и показаниями свидетелей… полностью изобличен. Двадцать пять лет лишения свободы… учитывая многочисленные просьбы трудящихся, руководствуясь революционностью советского уголовного права… Йорка Харитона Устиновича, родившегося… высшая мера наказания: расстрел!
Расстрел, Коля, расстрел. Только не надо, дорогой, делать круглые шнифты, не надо удивляться и хрипло доказывать мне, что закон не имеет обратной силы. Не надо. Это буржуазные законы не имеют обратной силы. А для нас закон – не догма, а руководство к действию. И все дела.
– Подсудимый Йорк! Вам ясен приговор суда?
– Замечательный приговор. Я такого не ожидал. Прошу суд ходатайствовать перед Сталиным о смертной казни через развешивание меня в столицах союзных республик, а также в городах-героях. Спасибо вам всем, дорогие товарищи неподсудимые! До встречи в эфире!
Брякнул, Коля, я все это, а они тихо зааплодировали. Только два хмыря – режиссеры – бегали по рядам и сердито заменяли улыбочки и ухмылочки скорбными выражениями лиц. Дети преподнесли мне роскошное издание «Ленин и Сталин о праве». Затем въехали в зал два электрокара, доверху нагруженные памятными папками красно-черного цвета с молниями наискосок. Их раздали зрителям, и заиграла веселая музыка, попурри из произведений Дунаевского. «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!»
Увел меня конвой в камеру-лабораторию. Я отказался от стакана спирта. Не стал обедать. Расписался в журнале опытов и дал подписку о неразглашении.
– Кому же, – говорю, – мне там разглашать?
– Ну мало ли что бывает. Такое правило.
Поставил я подписи еще в каких-то ведомостях и актах о выходе из строя нескольких приборов. По просьбе лаборантов написал докладную записку министру среднего машиностроения о том, что, желая напоследок подгадить стране, хватанул стальным бруском по бутыли спирта. Списали ее тут же и выжрали.
7
Снова я вдруг поплыл, поплыл, даже не успев подумать, врезаю я дуба или не врезаю, и прочухался в камере смертников. И вот, Коля, очухался я в камере смертников, причем голенький, но от холода не мандражу. Шнифты открывать не желаю и думаю: на хрена меня пробуждать? Врезал бы дуба и – до свидания. Никаких хлопот ни вам, ни мне, а общество писает кипятком выше кремлевских звезд от удовольствия, что избавилось от урода, мешавшего ему двигаться вперед к сияющим вершинам. Лежу, значит, не шевелюсь и, веришь, Коля, стараюсь не захохотать, потому что странно я устроен. Я представил на секунду, как общество подкандехало совсем близко к вершинам, так, действительно, сияющим, что многие люди теперь уже ослепли начисто от их нестерпимого блеска, а те, кто поумней, опять-таки уже теперь, чтобы не ослепнуть, ходят в темных очках. Подкандехало общество и тут растревожило нервные склоны гор. Пошли обвалы, заносы, лавины, ледник имени Ленина всей своей холодной мощью двинулся на общество, а за ним и другие ледники, поменьше: Кырлы Мырлы, Буденного, Дзержинского, Станиславского и Валерия Карцера. Вот-вот столкнется поток тупой, ослепшей человечины с потревоженной стихией, которой, слава богу, неведомо, какими тухлыми именами человечина ее окрестила. Растерянно переглянулись вожди с рабами, и вот эта их беспомощная растерянность и развеселила меня, Коля, но, клянусь тебе, не потому, что картиной безжалостного возмездия заглушал в себе страх идущего ко мне последнего часа. Нет, не был мстительным беззвучный мой смех, да и не такой я дурак, чтобы верить, что все будет так, как я ни с того ни с сего себе представил. Просто беспомощность и растерянность на одну только минуту обратили в моих глазах скотов в людей, скорее даже в детей, которым до конца времен суждено осатаневать от гордыни, проклинать себя за нее в страшный миг и открывать на слабых губах чистую улыбку мольбы о спасении. Господи, подумал я тогда, насколько же я старше, стоя на вершине своего настоящего времени, и тех, кто уже сгинул, и тех, кто придет и тоже сгинет в свой час. И как хорошо, что я помираю не в толпе, как хорошо, Господи, что я один-одинешенек! От помилования я откажусь, кассаций тискать не буду, ничего не желаю, мне бы вот так лежать и лежать, пока не дернут с вещами, и сделаю я свои последние шаги по земле, она же железобетон, она же красный кафель, она же пустота… Она же пустота, Коля. Как хорошо, что я сейчас один-одинешенек! Но не тут-то было! Марш заиграл. Мы покоряем пространство и время!
– Подъем, Йорк! Вставай, змей, и реагируй на интерьер. Все, думаешь, шуточки с тобой шутят? – говорит Кидалла. – Думаешь, нам неизвестно, что ты проснулся? Подъем, тварь. Я из-за тебя выговор по партийной линии получил! Ты почему, гадина, последнего слова не сказал?
– А мы насчет него не договаривались, – отвечаю и встаю. Смотрю на стены. Там за стеклом орудия самоубийства выставлены. Веревки мыльные, яды, бритвы, финки, пистолеты и снотворные калики-моргалики. Они, значит, хотят, чтобы я, желая сократить часы, а может, и дни предсмертного страха, реагировал на симпатичный сердцу приговоренного к высшей мере интерьер? Пожалуйста! Извольте! Я ищу что-нибудь острое, но в камере угла нет ни одного, не то что ложки, как у графа Монте-Кристо. Только приборы какие-то под стеклами. Знаю, что за мной кнокают, изучают для правосудия будущего мою психику, и пробую отколупнуть ногтем стекло стенда. Бегаю мимо него как волк, слюнки глотаю, словно мне сейчас необходим хотя бы гвоздь. Вбил бы его в сердце – и все дела. Тут они стали тасовать Время. Снова марш заиграл. Ложусь на нары. Пусть думают, что я поверил в вечер. Пусть думают. Они за это денежку получают, диссертации пишут, а сам-то я знаю, что еще день, часа два всего прошло, как я проснулся. Сам-то я знаю это точно. К вечеру у меня левая пятка начинает чесаться и хочется чаю с сухариками и черносмородиновым вареньем. Захрапел я сладко-сладко, для пущего понта, и слышу голос Берии:
– Ваши опыты, товарищи, имеют для нас огромное значение. Недалек тот час, сказал Сталин – мы вчера с ним ели шашлык, – когда наша страна полетит к звездам. А лететь до ближайшей звезды, указал он, подольше чем двадцать пять лет с поражением в правах. Нужно уже сейчас научиться изменять биологическое время организма так, как того требуют условия длительного полета. Биологическое время человеческих организмов, подчеркнул Иосиф Виссарионович, тоже относительно и целиком зависит от воли партии, от воли народа… В общем, запускайте этого мерзавца, слишком долго гулявшего по земле, куда-нибудь к чертовой матери! – велел Берия. Снова, Коля, заиграл марш «Мы покоряем пространство и время». Встаю, потягиваюсь, сладко зеваю, помочился в парашный клапан, говорю:
– Кормить меня, псы, думаете? Или в вашем светлом будущем подыхать велено натощак?
Молчание. Все так же висят за стеклом недоступные для меня орудия самоубийства. Нары вдвинулись в стену. На ихнем месте появилось стереофото. Подперев скулу ладошкой, смотрит Ильич на господина фантаста Уэллса. Шнифты прищурил и говорит:
– Ох, Уэллс! Ох, Уэллс!
Вдруг часы где-то громко затикали. Так-так, тик-так. И табло загорелось у меня перед носом. Секунды на нем мелькают. 60… 59… 40… 36… 20… 10… 3… 1… Пуск!
Слышу, Коля, отдаленный рев, держу себя в руках, хуже смерти не бывать, а одной не миновать, я уже прошел через кое-что, меня ничем не удивишь, не бэ, Фан Фаныч, все будет хэ, но все-таки слабеют мои коленки от неизвестности, что же вы еще, проститутки, придумали, до каких пор мучить меня собираетесь? Вылупляется вдруг в стене иллюминатор, вроде самолетного, смотрю в него – и уплывает, уплывает от меня Красная площадь, Мавзолей становится все меньше и меньше, очень это было интересно. Вот уже вся Москва осталась под облаками, а я над ними, над ихними сугробами, над мороженым детства моего, вон круглая, щербатая желтая вафелька, и на ней буковки «Ваня». Луну я увидел, Коля, и сообразил, что, вместо того чтобы шмальнуть, решили меня запустить для опыта к чертовой матери. Вспоминаю, имеется ли во вселенной такое созвездие, и пробую просечь, что лучше: смерть или такой вот полет? Решить ничего не могу, но падаю на колени и говорю:
– Господи, не покидай! Дай мне силы быть!
До сих пор, Коля, не могу понять, что бы мы с тобой делали при советской власти без веры в Бога? Без нее жизнь твоя и моя, несмотря на наши свободные профессии, была бы сплошным мелким и унизительным бытовым адом. В общем, лечу. Простился я с землей. Что я при этом думал и чувствовал – тема для особого разговора. Выполняю команды, которые мне дают по радио, слушаю последние известия Юрия Левитана, сошел с рельс тысячный паровоз ФЭДЭ… Слушаю музыку советских композиторов, хаваю, вернее, выдавливаю в себя разную пасту из тюбиков, живу, короче говоря, как теперь какой-нибудь Попович или Терешкова. Погружаюсь в сон, пробуждаюсь раз в сто лет по электронному календарю и тогда гляжу в иллюминатор. За ним то черным-черно, то светила виднеются, то созвездия мельтешат.
И ты, Коля, абсолютно прав. Я был сохатым и верил, что лечу в тартарары. Но я же не знал тогда, что такое – состояние невесомости! Как я мог просечь, не зная этого, лечу или не лечу? В космосе я или в лаборатории на Лубянке? Тем более за Ильичом и Уэллсом то и дело что-то грохочет, на приборах лампочки мигают, стрелки всякие бесятся и так далее. Одним словом – лечу.
Время для меня вообще перестало существовать и поэтому я, слава богу, не думал ни о жизни, ни о смерти. Правда, мандражил я, что меня шмальнули после приговора, а этот полет – на самом деле адская жизнь. Но и то, думаю, не может же она продолжаться до бесконечности. Должна же быть, в конце-то концов, хоть какая-нибудь, ну хоть махонькая остановочка, на которой бедные бабки в бессмертных черных плюшевых кацавейках продают тушеную картошку с луком. Должна же она быть! Держись, Фан Фаныч!
Электронный календарь, по-моему, испортился. Очень уж много времени прошло со дня моего отлета с Земли. А на спидометре скорость 100 000 км/с. Хрен с ней, думаю. Не все ли мне теперь равно, какая скорость? Кемарю, просыпаюсь, облетаю какие-то каменные серые пространства планет, изрытые ямами, по новой кемарю, по новой встаю и из-за странного устройства своей души весело временами посмеиваюсь. Многое мне, Коля, в жизни ясно. Но вот просечь бы, что означает этот тихий, утробный и теплый смех в самые, казалось бы, страшные минуты бытия? Чего он есть примета? Того, что теплится в тебе Душа, не истребленная дьяволом и адским его оружием – унынием? Теплится и, значит, беззлобно посмеивается, веря в свою неистребимость, над деловою суетой сил зла? Так оно или не так? Извини, что отвлекся, но на какое-то время я впал-таки, позорник, в уныние.
От нехрена делать я решил засечь время по росту бороды и ногтей. А они что-то не растут и не растут. Каким было рыло выбритым и ногти на руках и ногах подстрижены, такими я и наблюдал их после каждого пробуждения. Не растут! Хотя по моим подсчетам и показаниям халтурного электронного календаря летел я уже тыщу световых лет, а Земля за это время успела побывать в светлом будущем, в коммунизме и к тому же врезать дуба от тепловой смерти. Ты, Коля, не лови меня на слове. Тогда я ничего не знал о замедлении времени при вертуханье на околосветовых скоростях. Я просто занервничал. Да и любой нормальный человек занервничал бы на моем месте. В чем дело? В том, что борода и ногти просто не успели отрасти? Или Чека перетасовала время так, что день кажется мне вечностью? Может, они меня, змеи, бреют каждый день под наркозом и ногти раз в неделю стригут? Это все еще куда ни шло! Пусть обрабатывают. Но вдруг я действительно шмальнул или каким-нибудь другим новейшим способом выведен в расход, и ничего больше на мне вообще не растет. Живу я уже неземной жизнью, что, очевидно, равносильно подыханию вечной смертью, и тогда – кранты, тогда – полная хана! Это в жизни Фан Фаныч весело шустрил, а после смерти шустрить не было у него никакого желания и уменья. Как видишь, Коля, налицо образ унынья. Но он мне являлся редко, слава тебе, Господи! А все больше я тихонько лыбился про себя, тоже давая Творцу знак, что в порядке Фан Фаныч, и вполне может быть уверен Творец в его веселье и здоровье, несмотря на ужасную греховную биографию и нелепый конец.
Прошли, Коля, еще тыщи лет. Открываю однажды шнифты и чувствую: щиплет на ноге какая-то царапина или прыщик. Щупаю. Барахванка! Откуда бы она? Боюсь поверить догадке. Как обезьяна, задираю левую ногу. Не выросли ногти на ней. Обмираю и задираю правую и вижу, смоля, в один из самых радостных моментов моей жизни, впрочем, при чем здесь радость, когда момент был истинно счастливый, что на мизинце правой ноги отрос здоровенный ногтище, здоровенный и, главное, необыкновенно почему-то красивый, каким я его никогда до этого не видел. А может, и видел, но красоты евоной не замечал. Ага, думаю, значит, вы, подлюки, все-таки бреете меня и подстригаете ногти, изучаете мое отношение ко времени! А про один ноготок небось забыл по пьянке ваш сотрудничек, схалтурил, миляга, и вот теперь я в гробу вас всех видал! Я жив и не скурвился перед собою и Богом! Мы еще в детстве, Коля, с родным брательником держали мазу, кто из нас дотянется зубами до мизинца на ноге. И я у него, царство ему небесное, всю дорогу был в замазке. А тут на радостях как-то изогнулся, до мизинчика дотянулся и поцеловал его, милого и родного. Спасибо тебе! И опять же на радостях вскочил я с нар, глянул в иллюминатор, там черная пустыня, только две звездочки, одна немного больше другой, мерцают, и завопил:
– Кидалла! Гнойник вонючий! Звезды-то заделанные! Космос-то твой туфтовый! И прошли не тысячи лет, а месяца два всего вы измываетесь над моим телом! Ты слышишь, бешеная псина? Но я чувствую себя хорошо, пульс и давление нормальные, к дальнейшим экспериментам готов! Ну что? Пришил ты мне заячьи уши? Времечко-то по-своему течет и течет, земля не полетела в тартарары, и я живу на ней в смертной своей камере! И ты меня не истребишь, мерзавец!
Повопил я еще что-то, навопился от пуза и начал бацать цыганочку. Чавелла! Ун-тарара-рара! Чавелла! Вздрогните хоть вы, заделанные звездочки, померцайте плечиками, ой да, братко, Ганя, ты гитару поцелуй, ты рассыпь звон, чавелла, золотой и серебряный! Фан Фаныч цыганочку бацать изволили во глубине туфтовой вселенной! Чавелла! Ын-да, ын-да, ын-да, ын-да-да-да-да! Вдруг, Коля, завыл какой-то зуммер, три длинных, два коротких, замигала фиолетовая лампа, на табло команда «Приготовиться к посадке!», и из глубины иллюминатора стала выплывать на меня одна из тех двух звездочек. Хоть и туфтовая она, а в паху похолодело от туфтового же снижения. Все ближе наплывает, все ближе. Стала звездочка с луну. Застлало ее облаками. Ничего не видно. Сначала черные шли облака, потом фиолетовые, желтые, тые… белые, и тыркнулись наконец в стекло длинные листья каких-то непонятных деревьев. Тыркнулись, и из-за дерева, Коля, ящер вышел, мерзкий, направился ко мне и тоже тычет в стекло драконовскую лапу и длинный ужасный язык. И видно, что ящер этот не туфтовый, а настоящая гадина. И веки у него набрякшие и морщинистые, как у Кидаллы. Смотрю: упал с орудий самоубийства стеклянный колпак. Бери, Фан Фаныч, что хочешь! Бери веревку намыленную, повязывай галстук модным узлом и откидывай копыта. Глотай калий цианистый, вены перерезай, пулю в лоб пускай, отваливай отседа, как знаешь! Но я по новой хипежу:
– Кидалла! Кусок вонючий! Я не Орджоникидзе, чтоб жизни себя лишать! Я ей не хозяин! Жизнь моя – божий подарочек! Подавись ты сам булавками и каликами-моргаликами! А я тебе цыганочку напоследок сбацаю! Чавелла!.. Ын-да-да-да-да-да-да! Чавелла! Я задешево жизнь свою не отдам!
Тут в иллюминаторе все внезапно пропало: и ящер, и неземные деревья, и, как теперь в самой серединке экрана телевизора, растаяла последняя звездочка.
– Я спрашиваю: кто вам разрешил менять график эксперимента? – рявкнул Кидалла. – Это вредительство! Вы – лжеученые! На пол погоны и ордена! График был утвержден Берией и Кагановичем! Мерзавцы! Бабуинцев, вы сексот группы?