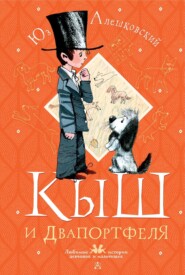По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений в шести томах. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это, несомненно, были пленные афганцы. В сопатку мою шибанул вдруг такой нестерпимо острый и вместе с тем тупо оглушающий запашок стыда, боли и причастности к предельно изощренному насилию, что ноги у меня подкосились. Я упал в более-менее спасительный обморок на глазах своего Шефа. Очухавшись, увидел рядом с собой Котю. «Все хорошо, Серый, – сказала она, – все хорошо… Домой едем вместе. Ты, наверное, сидел там без меня на воде и хлебе?… Все хорошо… Глотни спиртику. А я получу наградной паек… икорка, балык, клубника, заливной язычок… какие-то африканские фрукты… наконец-то их научились безболезненно транспортировать… докумекали… и домой… все хорошо…»
Она поспешила в спецбуфет, где отоваривалась наша номенклатура и все премированные за разные достижения по выведению эффективных бацилл, неотвратимых вирусов, подрывных насекомых и мелких грызунов – переносчиков наступательной заразы в городской и деревенской местностях. А Шеф говорит мне сочувственно: «Надо вам, Сергей, сбалансировать как-то эмоциональную жизнь с помощью новейших транквилизаторов. Я это готов устроить. Ляжете и в спокойной академической обстановке подштопаете надпочечники, призовете к порядочку гипофиз с гипоталамусом, одним словом уравновесите свою эмоционально-душевную жизнь в сторону некоторого равнодушия к неразрешимым, в сущности, нравственным проблемам и успокоения слишком уж дезориентированной своей совести. Надо ведь жить, надо исследовать, надо поверить – просто взять и поверить, – что раньше жертвы приносились на алтарь вымышленного божества, то есть, по сути дела, псу под хвост, а теперь мы вынуждены в целях прогресса приносить тщательно обдуманные и абсолютно целенаправленные, полезные жертвы науке, в трагически-благородных поисках которой – разрешительный смысл истории и нравственное оправдание жрецов научного поиска. Между прочим, ваша жена в течение двух лабораторных суток добровольно и без ведома партбюро со спецотделом подвергала себя суровейшему испытанию: она с ошеломительным терпением вынесла несколько сотен контрольных укусов нового, весьма многообещающего поколения блох. Разумеется, еще ничем не зараженных. Но ведь, согласитесь, среда функционирования полезного нашей глобальной политике насекомого должна и в экспериментальных условиях максимально приближаться к естественной. Несколько ученых-подвижников, чью самоотверженность военная бактериология никогда не забудет, не могут, к сожалению, заменить одного натурального объекта боевых укусов с таким трудом выведенной блохи. Блохи, поверьте мне, отличаются, скажем, от вши или клеща поразительной разборчивостью и приводящей науку в недоумение избирательностью… Так что давайте уж я устрою вас поваляться, с вашего, разумеется, согласия, в закрытую клиничку. Я там у них – консультант и руководитель нескольких очень интересных диссертаций. Одновременно и горелочкой поорудуете. Они давненько вас у меня выпрашивают. Вот и попотрошите заодно этих трижды и четырежды лауреатов Государственных премий. Идет?…»
Что мне было делать? Я согласился. Тем более, когда мы с Котей направлялись домой, она говорила, что близится новая серия закрытых опытов и ее все равно не будет дома.
Кроме того, она высказала желание купить «жигуленка», на который одной надвигающейся премии не хватит. Мне необходимо подхалтурить на выдувке приборов. И пора уже в конце-то концов поднять цены на выдуваемые налево изделия. Дорожает водка, икра, ковры, драгоценности, фрукты на рынке и косметика в «Березке». Над моими чудаческими тарифами, сказала Котя, уже начинают посмеиваться люди с чувством реальной жизни… Хватит принюхиваться к тому, что ничем в принципе не пахнет…
В тот вечер и в ту ночь, почти до утра, спорили мы с Котей до хрипоты и частичного разрушения желания супружеской близости о политике Генштаба, преступности военной бактериологии и химии и прочих беспокоивших мою совесть предметах… Спорили, и я с печальным недоумением разглядывал такое любимое тело, сплошь покрытое блошиными укусами. Долго спорили.
Я, как всегда, примолк, потому что, повторяю, не в силах был принести единственное свое – семейное – счастье в виде высоконравственной жертвы на алтарь воспаленной и страдающей совести. Этого сделать я никак не мог. Мне оставалось только залечь в закрытую клинику и попытаться установить спасительное равновесие, как сказал Шеф, между амбициями этой самой совести и отношением к неизбежным странностям современного мира и человеческой истории. Может, подумал я в отчаянии, действительно неадекватно реагирую я на условия развития жизни и науки? Может, похожу я при этом на патологически мнительного человека, которому кажется, что все люди только и делают, что назло ему портят воздух в общественных местах и при этом ехидно про себя подхихикивают, тогда как воздух вокруг не запакощен ни малейшим шкодничеством, а причины мнительного беспокойства опасно размещены в незалеченной психике раздражительного существа?…
Нет, решил я, тут, должно быть, что-то не то. Обоняние мое слишком уж распоясано и травит разум запахами явлений, которые и заглушают работу мысли по небрезгливому освоению противоречивой действительности… Залягу и вообще обращусь к закрытой медицине с просьбой о ликвидации во мне чувства обоняния. Нос в конце концов – не пара глаз и не лопоушье, необходимые в нынешних условиях существования на этом, во всяком случае, свете… Запах котлеты или жены можно взять и вообразить со всей возможною силою. Зато со скольким зловонием покончу я разом и сколько всего дурнопахнущего смогу держать презрительной своею, но ныне бессильною волей на джентльменской дистанции!
Одним словом, с этими настроениями я залег подремонтироваться, захватив с собою из дома – чтобы не изнывать от скуки и тоски – любимое художественное произведение «Hoc» H.B. Гоголя. Полеживаю, почитываю таинственное это иносказание писателя, крайне чуткого на распространение в мире и в жизни даже самых мелких грешков, источающих вполне сносную для терпения и нюха неприятность, не говоря уж о его чутье предельно выразительного смердения мирового зла. Не случайно, думаю, взялся он за «Нос», не случайно профилактически откочерыжил его с физиономии героя, перед тем как отважиться в одночасье на путешествие по моргообразным пространствам – местообитанию Мертвых Душ… Так вот и я, думаю, поступлю… В наше время ничего откочерыжи-вать не надо… Нос же – это всего-навсего видимое олицетворение скрытого в моем мозгу больного органа обоняния… Введут в мозг электродик, впустят в нужное место разрядик тока, да к тому же перекроют смежные связи мысли с запахами всего того, что, на нюх нормальных людей, не только не пахнет, но и не должно пахнуть… Слишком тяжко чувствовать и осознавать все непотребное в себе самом и в людях, да еще вдобавок обонятельно изнывать от миазмов внутренней и внешней политики правительства, кошмарного бздо Запада и мелкой смердыни окружающей действительности… Тяжко…
Котя плану моему весьма обрадовалась. Просто расцвела, словно первою брачною ночью нашей в махоньком домике на садовом участке… Черемушка… душок черемуховый, доводящий носоглотку до форменного опьянения…
Я, говорит Котя, так радуюсь, что решился ты подремонтироваться и отдохнуть сверхчуткой своей душой от безумной сложности жизни, что уже теперь как бы предчувствую твое возвращение… Ну у меня от слов таких вдохновляющих в глазах – роса, в душе – вокзальная тоска, в уме – отсутствие осмотрительности. Мужественно готов к единоборству с клиническим временем пребывания в спецдурдоме исследовательского типа… Напоследок сказал так: «Вы хоть обращайтесь с пленными по-человечески. Не трансформируйтесь в освенцимский фашизм. Наука наша проклятая наукой, но ведь и совесть иметь надо. Надо душою воспринимать – что к чему, а не брести за научным любопытством, как голодные собаки бредут за обмусоленным кукишем…» «Это все, – ответила обнадеживающе Котя, – они там в тебе подлечат. Я сама позвоню Главному и все объясню. Главное: давай – полегче. Поверь наконец, что цинизм в малых дозах просто необходим всем нам для здорового выживания в современных условиях. Можем мы изменить существующий и не нами с тобой порожденный порядок вещей?» «Не можем», – сказал я на прощание, хотя что-то во мне сопротивлялось такому унылому согласию с беспросветностью исторических перспектив. Что-то сопротивлялось во мне и настоятельно требовало, так сказать, обнародования, то есть желало забастовать и высморкаться прямо на парадный китель генеральского этого порядка вещей… Без меня, господа… без меня… вы, позвольте заявить решительно и бесповоротно, очумели…
Но поздно было на пороге прощания с любимым существом выкаблучиваться по-граждански. Поздно. Тем более, предчувствие возвращения домой в поправленном виде может морально обезоружить любого сомневающегося в порядке вещей человека…
Не буду описывать своего пребывания в нейросекторе «закрытой клинички», как сказал мой Шеф. Сотрудники, которых бросили на исследование моего обонятельного феномена, ни о чем меня не расспрашивали. Им, очевидно, со слов Коти и Шефа все уже было известно. Это меня существенно взбодрило, потому что мысль о тупой необходимости заполнять «историю болезни» заполняла скверной тухлецой ум и отравляла настроение сердца. Конечно, размышлял я, без наличия у врачей таковых историй, несмотря на яркость всей симптоматики, проблема излечения усложняется. Но почему бы им не допустить, в моем хотя бы случае, что история моей болезни – прямые и непосредственные потемки. Ничего тут не доищешься. Это все равно, что рыть колодец не вглубь, а вкривь и вкось.
Нелепо. Ясно, что всплыл во мне оригинальный ген, а вот отчего он всплыл и откуда – не дороешься… Прижгите мне его, пожалуйста, и на том я скажу вам спасибо. Хватит. Нанюхался… Лечись и сравняйся с остальными людьми возможностями обоняния, терпения, рассудительности и скромностью воздержания от злобного протеста… Иного выхода нет…
Затем ученые и их ассистенты начали готовить меня к конкретному, как они выражались, вмешательству в участок мозга с локализованным там центром гипертрофии чувства обоняния.
Само это «вмешательство» прошло безболезненно. Только странно мне было после анестезии принюхаться к атмосфере палаты и не учуять ничего, кроме стерильного покоя. Голова не болела. Повязка не мешала. Чувствовалось, что череп предельно выбрит. Ясно было также, что око телекамеры направлено прямо на меня. Но это не раздражало. Наслаждение мое покоем не хотелось нарушать ни движениями, ни речью. Меня мог бы понять в те часы человек, проживший всю жизнь, скажем, в кузнечном цеху или в лаборатории, где ни на секундочку не умолкает рев испытываемых моторов, а потом внезапно выброшенный судьбою в дикий лес и убаюканный полным безветрием… Такой это был покой, происходивший от бездействия обоняния. До носа я даже не желал дотянуться слабою рукой. Казалось, что вместо него на физиономии моей – голое место. Пустырь, никому не напоминающий о стоящем здесь некогда нелепом и досадном строении… Дышал я только ртом, побаиваясь возобновления действия нюха в обеих бесчувственных наконец-то ноздрях… Не мешало бы, думаю, слинять из НИИ. Без меня, скажу, господа, без меня… Сам же готов работать в таком состоянии даже в морге Первой Градской больнички, запашки из которого проникали, бывало, в детстве в коммунальную нашу каморку, доводя меня до панического ужаса и судорог омерзения…
В морге, думаю, теперь мне будет гораздо легче, чем с еще живущими товарищами людьми. Там – как на лугу, присыпанном глубоким небесным снегом: ни аллергии с чихом и слезою, но чудесный сон природы, затягивающий и тебя в блаженнейшее забытье… Или – так-то оно будет вернее – как на городской свалке, начисто погребенной под ночным снегопадом. Вблизи от одного из таких тоскливых кладбищ цивилизации пришлось мне существовать в молодости, что не могло, конечно, не наложить печати угрюмой брезгливости на мои размышления о сотворенной человеком на Земле второй природе. Никак не могу удержаться и не добавить – природе, довольно бездарно враждебной первой, истинной и великолепной со всеми своими стихиями – как смертоносными порою, так и ублажающими душу и благородно подкармливающими тело человечества… Нет теперь для меня, мечтаю все проникновенней и проникновенней, служебной атмосферы уравновешенней и благоприятней. Тишина. Свободы, Равенства и Братства весьма удачный вариант, как сказал поэт. Всех одинаково жаль… На свалку, разумеется, легче будет устроиться, поскольку, по слухам, работа в морге весьма обогащает.
Много чего приходило в мою голову в первые дни после нейрооперации в порядке озабоченности и пересмотра принципов жизни. Много чего вспоминалось из того, что вытеснено было памятью из своих загашников или вовсе не принято, как казалось мне, в согласии с моим отношением к разного рода мировым и общественным отвратностям. Я словно бы переживал заново все, что не в силах был пережить ранее, однако переживал без какого-либо содрогания и впадания в беспредельное уныние…
Кстати, в первую кормежку я довольно равнодушно отнесся к вкусовому одноподобию принесенной мне пищи. Плевать, думаю, когда ученые фиксировали на тончайших приборах обонятельные мои реакции, что биточек, хлеб и компот теперь уже оригинально не пахнут, что и на вкус они существенно поувяли – плевать. Если бы человека вообще – в соответствии с мечтой Митеньки Карамазова – слегка по всем статьям и страстям вдруг сузили, то все мы гораздо меньше безумствовали бы, не так бесились с жиру по всякому малозначительному поводу и, уж конечно, совокуплялись бы не ополоумевши – ни с того ни с сего, – но исключительно сдержанно и целесообразно, как и положено Венцам Творения. Меньше бы обращали внимания на избыточную тягу к перемене внешних мод, но углубленней внимали бы оттенкам развития чувств и мыслей, не говоря об упоении постоянством и волшебной роскошью мод в царстве растительности. Кто знает – может, и причин для умонепостигаемой взаимной вражды лиц и народов стало бы вдруг меньше, а истина того, что человек человеку – брат, проникла бы непосредственно в сердца и души, преобразившись из настораживающей и сомнительной для многих мысли в самый властный и чуткий инстинкт поведения?… «Да, да, да! – самозабвенно отдавался я ничем не сдерживаемому потоку размышлений. – Если бы трепливая наша и обросшая ложью КПСС вместо хронически холостых и невыполнимых своих бездарных постановлений и решений «о дальнейшем расширении ассортимента…”, «дальнейших шагах по увеличению…”, «дальнейших мерах по углублению борьбы с…» отчаялась вдруг на действительно историческое постановление «о дальнейшем сужении эффективной натуры советского человека с одновременным эффективным расширением его человеческих обязанностей и гражданских прав…”, то все мы в ближайшие же пятилетки поумерили бы свои амбиции в жизни, науке, политике и хоть слегка взнуздали бы безрассудство погибельных страстей и интересов… Хотя, – тут же отвернулся я от плохо прикинутых проектов, – если за назревшее дело некоторого сужения «слишком уж широкого человека» примется именно советская власть, то в лучшем случае никакого не произойдет нравственно необходимого «сужения» нашей исторически распоясавшейся натуры, но настанут времена всеобщего и уж окончательного обмельчания этой самой непокорной и сверхзагадочной стихии… Лучше пусть все идет своим чередом и в порядке персональной борьбы с дальнейшим расширением человеческой натуры… Может, со временем мы и сами потихоньку сузимся. Сузимся и скрутим горло некоторым нашим основным заносчивым амбициям, а там, даст Бог, сужение такое настанет, что мы при жизни еще сможем спокойно протискиваться сквозь игольное ушко, к полнейшему изумлению партии и правительства…»
Явилась ко мне сразу же на свидание Котя. Уткнулся в ладонь ее сжавшимся от растроганности носом, тыкаюсь по-щенячьи, и не беспокоит меня, как всегда, слишком уж настырный и едкий запах ее зарубежной парфюмерии, к которому я всегда относился с раздражительной ревностью, а порой и с ненавистью. Правда, общее мое чувство чудесной неповторимости жены лишилось такого одного качества, которое в словах невыразимо, которое даже я – гипертрофик обоняния – учуивал с большим трудом, да и то в минуты наивысшего подъема душевных сил, и которое можно было бы весьма приблизительно назвать качеством предельного родства и любовной единственности. Но Котя не перестала бы быть Котей, если бы я, скажем, ослеп, ко всему прочему, оглох и трагически атрофировался как мужская половина нашего совместного, предельно цельного чувства? Не перестала бы, безусловно. Да если бы даже замер я безмолвно и неподвижно с полным притуплением осязания на инвалидном ложе, подобно пресловутому Н. Островскому, если бы лишен был возможности на ощупь определить, кто тут безутешно склонился в данный момент над печальным моим полутрупом, то верил бы я, верил, верил – склонилась надо мною Котя…
Беседуем о том о сем. К работе НИИ не проявляю никакого интереса. Прошу посуетиться и настоять на скорейшей моей выписке отсюда. Настроение у меня жизненное, а желание близости сводит вечерами с ума, хотя подумываю о необходимости сужения себя по этой части. «Как, – интересуюсь, – проводишь время? Кого видишь? Что читаешь?» «Времени ни на что не остается, – отвечает Котя. – Иногда сутками пропадаю в лаборатории. Проводим контрольные опыты… Только не волнуйся и не принимай всех этих необходимых для развития науки дел близко к сердцу. Я настояла на том, чтобы сотрудничающим с нами объектам – пусть даже все они басмачи – вводили инъекции, во много раз уменьшающие чувствительность кожи. Теперь серии укусов почти их не беспокоят. Практически они не чешутся… Если бы не военные этнографы, работа шла бы гораздо быстрее. Эти хлюпики изучают открытый мною феномен долговременной связи „НАДАФКИ“ – ласковое прозвище блохи – с кусаемой этнической общностью. Говорят, что исследования эти необходимы, в свою очередь, бионикам. Морока. Хотя я, поговаривают, схлопочу Государственную и по кибернетике как эффективная смежница. Сможем, пододолжив, внести за „жигуленка“. Тебя все ждут не дождутся. Черненко по-прежнему крадет спирт, нажирается и не в состоянии выдуть тонкого подхода к сенсорным датчикам реторт…»
Лепечет все это Котя, а я внимаю без малейшего трепета нервишек. В лепете – неделю назад у меня от него крапивница пошла по шее и изнанке предплечий – не учуиваю не то чтобы никакой скверны, но не учуиваю я в нем даже смысла. Равнодушно киваю. Тихо покручиваю пуговичку на пижаме. Котины пальчики перебираю. Хотелось бы поцеловаться, но проклятый сосед по палате, не переставая, бормотал свои безумные задачки по идиотской математике и одержимо расхаживал мимо нас с Котей.
Я попросил Котю удалиться и настоять на моей выписке. Перед выпиской меня подвергли всесторонней проверке. В истории моей болезни, повторяю, были перечислены Котей, Шефом и некоторыми моими опрошенными знакомыми «атрибуты жизни, на которые больной реагировал резко отрицательно и ассоциировавшиеся в его обонянии со всем дурно пахнущим». Включали магнитофон. Я слышал разговор подростков в подъезде… высказывания каких-то граждан по поводу подорожания водки… абзацы из передовой «Правды»… унылые звуки речи пленных афганцев во время проводимых на них опытов… Много чего я слышал и думал, что записи подобного рода являются не чем иным, как доносами на меня – форменными доносами, хотя и сделанными с благожелательной целью… Но обоняние мое было бесчувственным. Меня не подташнивало ни от мата, ни от скабрезности, ни от социальной тухлятинки, ни от скверного слова «донос»… Я спокойно думал об «атрибутике жизни» в соответствии со всеми всегдашними вкусами, нравственными установками и так далее. Но думы мои были оптимистичны, а не невыносимы, как до операции в черепе. Они не мешали жить и как-то освободительно одухотворяли своим очевидным благородством. Мысленно я отнес себя к самому омерзительному для меня прежде типу людей – к сытым и всеустроенным советским либеральчикам. Встречал я их и среди институтских подружек Коти, прикипевших к кандидатским и докторским микроскопам, и в домах отдыха, где они уютно покачивались на коротких волнах «вражеских голосов», и среди своих близких знакомых. Они «буквально проглатывали», по их выражению, самиздатские романы и прочие печатные обличения власти; они восхищались от всей души как неистовством «Солжа», так и «очень дельной конвергенщиной Сахарочка»; они воротили носы от газетной лжи; они поругивали правительство за полную бездарность, а партию – за бесстыдную кастовость; они покручивали пальцами у височков при разговорах о «безумных внешнеполитических авантюрах» и так далее. Но на отчаянно и по пьянке поставленный кем-либо вопрос: «Так что же делать, господа?» – разводили руками, и на лицах их появлялась печать возвышенного почтения к тому, что они считали священным и жутковатым божеством, – к исторической необходимости. На меня-то от этих двух слов налетало обмораживающее бездушие сверхнизких температур, начинало подташнивать, хотелось разнести все вдребезги, я начинал дерзко спорить, но руки мои опускались от безмерной усталости сердца и полной безнадежности, когда все остальные дружно сходились на том, что ни в коем случае нельзя раскачивать лодку. Нельзя раскачивать лодку…
С этими словами я и вышел из клиники. Шел домой пешочком. Шел осторожно, как бы стараясь не нарушать нового и небесприятного для меня чувства равновесия жизни. Постоял просто так пару минут в какой-то очередище, чего раньше терпеть не мог из-за устоявшейся вони многолетнего унижения, которой несло от подобных людских скоплений… Ничего, подумал, стоять можно, раз все стоят. Не в крематорий же очередь, а за коврами…
Явился домой. Меня ждал обед с винцом. Котя премило суетилась. Сообщила, что вскоре поедет в Женеву как новоизбранный член Всемирной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны» или чего-то в этом роде. Меня все это мало трогало. То есть вообще не задевало. Я и ел равнодушно. Потому что – одно дело, когда различаешь и смакуешь вкус бульончика, пирожка с мясом и рисом, цыпы под каким-то диковинным соусом, а главное – винца, но когда все блюда на один вкус, тогда – другое дело. Пожевываешь себе и подумываешь с некой иронической печалью о странной исторической необходимости поддерживать жизнь таким вот причудливо опоэтизированным образом – изощренная рецептура блюд… десятки тысяч соусов… сотни специй… бесчисленное количество их смешений… зачем? Ведь лошади и коровы одну траву жуют, а сил у них намного больше, чем у нас, похрустывающих косточками цып и лопающих на десерт творожный торт с малиной… Зачем все это?… Зачем?… Надо упростить меню и перейти на служебный спирт… Теперь от него, очевидно, не будет разить античеловеческими добавками…
Разумеется, мы с Котей залегли в кровать после просмотра информационной программы «Время». Кстати, когда диктор Кириллов сообщил, что камвольный комбинат имени XXIII съезда партии досрочно сдал государству десятимиллионный метр ткани, я только усмехнулся под испытующим взглядом Коти. До операции в мозгу меня просто выворачивало от омерзительного наигранного пафоса всех этих наших дикторов и от того, как они дают всем понять, что только служебный долг мешает им разрыдаться от волнения при сообщении о досрочно произведенном в Воронежской области ремонте сельхозинвентаря или о повышенных обязательствах, которые взяли на себя в преддверии… Ужас. Ужас… Но в тот вечер я равнодушно заглотил всю телебрехню, и мы залегли в кровать…
Половое сношение с Котей произошло довольно физиологично, то есть формально, без частичного самозабвения и судорожного счастья постижения тайны соития с любимым человеком. Возможно, произошло это потому, что я не учуял, как всегда, чудного и дикого веяния лаванды от постельного белья. Возможно… Но лучше оставить малосущественный разговор об интимной жизни…
На работе все встретили меня с искренним воодушевлением. Спирта было вылакано рекордное количество. Пил я его как безликую жидкость. Прилично закосел. На закуску слопали списанную из «отдела изучения последствий усиленной радиации» жирную курицу. Ее не успели еще облучить. Зажарили курицу в фольге, в керамической печи, с картошкой, маслинами из еженедельного пайка Шефа и лимоном. Пили и ели, рассуждая, что уж лучше нам первыми нанести однажды неотразимый ядерный удар по врагу, чем зевнуть и оказаться зажаренными в верхнем слое земли вместе с курицами, овцами и овощами… Раз попахивает исторической необходимостью атомной войны, то надо вдарить первыми. Один раз вдарить, принести в жертву массу не собственного народа, а уж потом… потом наступит долгожданный мир… потом бросим все ресурсы на сельское хозяйство… Солжа издадим… Сахарова подлечим и даже назначим Президентом Содружества Победителей… Свернем военную бактериологию… История не может не оправдать тех, кто нанесет первый сокрушительный удар с благородной целью навсегда покончить с войнами и резкими социальными контрастами…
Я все это слушал и помалкивал. Не отвращался. Пусть себе порят чушь. Стеклодуву, нелишне будет заметить, пить спирт во время рабочего дня ни в коем случае не следует. Стекло, можете мне поверить, не бесчувственно. Оно требовательно и благородно воспринимает состав твоего дыхания, и это отражается прямым образом на характере отношения выдутого предмета – особенно предмета тонкого и замысловатого – к ходу сложного опыта. Кроме того, стеклодуву пить на работе весьма опасно. Этого я и не делал никогда. Пил с дружками после работы. Спирта всегда было – по горло. А в тот день мы прямо с утра начали обмывать мое возвращение и излечение от странного психотелесного недуга. Одним словом, надрался я до того, что забылся и дунул сивухой через свою трубочку в раскаленную блямбу. Подостыв уже в законченном изделии, выдутая блямба ответила мутноватостью в изгибах, а на прикосновение к себе специальным моим камертончиком алкогольно тренькнула, но не зазвенела чистосердечно и благородно. Кроме того, я с ней порядком намучился и чуть было не опалил губы. Ведь сивушный дух в соприкосновении с высокой температурой и под грудным давлением, когда попадает он внутрь выдуваемой вещицы, имеет неприятную тенденцию возмутиться от жара и стеснения и рвануться обратно. Могла и меня постичь судьба многих моих коллег, но я увернулся вовремя, додул кое-как, отдал заказ Шефу, получил от него еще грамм двести, и гулево наше продолжалось даже после работы. На следующий день изделие мое лопнуло во время опыта, чего раньше никогда не случалось. Стекло, повторяю, не бесчувственно, как и прочие природные вещества, находящиеся в контакте с человеком и подвергающиеся наступательным порывам его безумного любопытства.
После этого я завязал с выпивкой во время рабочего дня. Живу довольно рыбообразно. Полный вокруг меня штиль.
Лодка не раскачивается. Плевать мне, думаю, на всех на вас и на себя в том числе. Порядок вещей мы изменить не в силах. Хорошо, что хоть пованивать перестало от мира и общества… Интересно мне было поболтать по душам с некоторыми случайными человеконогими личностями, к которым пару недель назад я бы близко не подошел. С Котей тоже установились спокойные отношения. Делами ее не интересуюсь. Осуждений не высказываю. Обсуждаем, что она мне приволокет из Женевы, где вся их шарашка собиралась обратиться в ООН с воззванием насчет гуманистических принципов современной науки и роли врачей в борьбе за мир. Прошу привезти пару фирмовых галстуков и чего-нибудь возбуждающего аппетит. Потому что с полной потерей обоняния я перестал ощущать вкус пищи с прежней чувствительностью и избирательностью. К жратве уже не тянуло, а отталкивало от нее. Все – каша, резина, пойло, сухомять и баландамерия…
Проходит примерно месяц. На черепе моем стали отрастать волосы. Живу спокойно, но попивать спиртик – попиваю. Без него, чувствую, вообще пропадает аппетит не то что к еде, но к брачной жизни и к ежедневному существованию. Не случайно же советский наш алкоголизм всенароден. Притупила, соображаю, советская власть вкус людей к истинно достойной жизни, вот мы и докомпенсировались чуть ли не до всесоюзной белой горячки. Природа везде свое возьмет, думаю, если не благородным, то поганым каким-нибудь образом. Природе брезговать не приходится. Человек протестует против чрезвычайного управления собою и намеренно искажает свой образ перед всевластным рылом правительства, потому что если ему не дают существовать правдиво и возвышенно, то он должен хоть в ужасном деле самоуродования проявить некоторую инициативу…
Вызывают меня однажды на партбюро. Если, прикидываю, начнут пропесочивать за выпивки и вымогательство спирта у научных кадров – пошлю их всех к ебени матушке. К матерку, должен сказать, я быстро пристрастился после операции. Не злоупотреблял бранью и сквернословием, но взял все, от чего прежде с содроганием отвращался, на вооружение. Нельзя и в таком деле так уж горделиво противопоставлять себя народу. Раз слился ты с ним и в выпивке, и в полном наплевательском отношении к творящейся от нашего имени истории, то и в остальном сливайся. Ходи на хоккей. Поругивай провинцию, обжирающую Москву-матушку. Тупей от «Правды» и антисионистских книжонок. Строчи – мудак – письма Рейгану, чтобы прекратил он свои звездные войны против территории нашей Родины. Проклинай одновременно кубинцев, черных и арабов, которые высасывают все жилы из русского Ивана, а потом, скорей всего, насрут за пазуху в знак глубокой благодарности за нашу верность интернациональному долгу и делу освобождения народов от ига империализма. Завидуй, разумеется, полякам и ненавидь их же за собственную твою зависть. Они хоть отлягнулись слегка от партии и правительства и напомнили этим придуркам, что у народа еще имеются копыта…
С такими вот мыслями я направился в партбюро. Но если, думаю, в партию они меня вдруг возжаждали затащить – упрусь. Благодарю и извиняюсь – не сумею. С политическим чутьем у меня беда. После такой сложной операции мне нужен санаторий, а не партсобрание…
В памяти моей навек, наверное, закрепился смрад подобных мероприятий. Примерно так воняют подолгу не убираемые на лестничной клетке пищевые отбросы для каких-то мифических поросят или портянки постового милиционера после целого дня службы в летнее время…
Строить коммунизм, товарищи, я вам подсоблю в меру сил и гражданской сознательности, но в авангарде трудящихся быть недостоин. Начальства и без меня хватает… Кроме того, я с детства боюсь партбилет потерять. Тетя Нана из нашей коммуналки посеяла где-то этот почетный документ и тут же тронулась. Лет пять ползала на карачках по коридору, по кухне и даже по двору – все искала потерянную святыню. Потом померла, а партбилет нашли ее наследники под буфетом, куда она сама его заложила от страха потерять. Завернут он был в бумажку, а на бумажке было написано рукою тети Наны: «Лежит под буфетом»… Без меня, давайте, без меня…
Заявляюсь в партбюро. Там сидят трое незнакомых мне лиц. Парторг НИИ, чувствуется, подналожил в брюки по неведомой мне причине. Все молчат. Уставились на меня – и молчат. Затем парторг вызывает моего Шефа и Котю.
Никак не могу сообразить, что к чему. Может, насчет спирта? Или кто-то тиснул донос, что слопали подопытную курицу? От зависти люди чумеют. А может, холодею от ужаса, курица та была облученной?… Но почему дергают одного меня, когда закусывали ею не меньше шести человек?… Начнут лечить или посадят?… Тут явились всполошенные Шеф и Котя.
– Партбилеты – на стол! – с бешенством крикнул им один из пришельцев.
Ноги у моей Коти подогнулись. Мне пришлось поддержать ее. Она полезла в сумочку за партбилетом.
– Не лучше ли сначала объясниться, – сказал Шеф. – Давайте без наскока. Вы разговариваете не со школярами. Я – член-корреспондент Академии наук СССР. Константина Олеговна Штопова – руководитель особо важного и актуального проекта, если вы в курсе дела…
– Мы в курсе всех дел. По чьей инициативе был положен на операцию стеклодув Штопов?
– Вы понимаете, что вы наделали?
– Вы отдаете себе отчет?
– Тратите миллионы черт знает на что…
– Втираете очки партии и государству…
– У вас под носом находилось чудо природы…
– Вы оперировали его и уничтожили, чем нанесли урон…
– Вы понимаете, что вы на-де-ла-ли?…
Когда пришельцы досыта наорались, выяснилась вот какая штука: в той самой клинике, где мне прижгли в мозгу гипертрофию нюха, шла борьба не на жизнь, а на смерть между двумя группировками. Одна из группировок сразу же после моей операции тиснула донос на другую. Так, мол, и так, в руках гудимовцев оказался феномен, который можно было использовать по назначению, поскольку нюх у него был мощней самой тонкой аналитической аппаратуры. При некоторых видах секретной деятельности он был бы незаменим. После операции, которую мы считаем вредительской и антинаучной, нос оперируемого можно выбросить на свалку. Нашей отечественной бионике и непосредственно КГБ и ГРУ нанесен непоправимый ущерб… привлечь к суду и ответственности… недостойны звания ученых, подобно отщепенцу Сахарову… просим лишить орденов и медалей с взысканием Государственных премий…
Все это дошло до меня после негромкого чтения некоторых документов, находившихся в зловеще-красной папке.