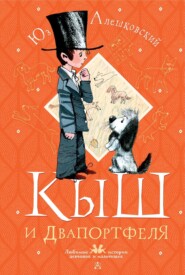По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перстень в футляре. Рождественский роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однажды в Амстердаме у Гелия случилась интимная близость с ученой дамой – экзотической религиеведкой. У милой штурмовщицы Небес через пару месяцев обнаружили СПИД. Несчастная интеллигентка, в первом поколении представлявшая на научном конгрессе атеистические силы молодого африканского государства, борющегося в джунглях с тотемными идолами, дала правдивые показания Интерполу, который давно уже шел по сексуальному следу этой роковой дамы.
В ее правдивых показаниях легко всплывали либо фамилии и имена, либо особые приметы партнеров. Именно так всплыли сначала родинка на причинном месте, шрамик под левым соском, а потом и фамилия Гелия. Он слегка обрадовался сложной болезни и неотвратимому ее исходу в самом ближайшем будущем. Это было бы, в конце концов, не худшим из способов избавления от некоторой обрыдлости существования.
В закрытом медицинском учреждении Четвертого управления медицинские девушки с ужасом взяли у него кровь на анализ. В кабинете замминистра здравоохранения – они давно были на «ты» – Гелий уже приготовился рассказать о пикантных постельных подробностях этого драматического заражения крови этой самой современной пакостью, но в тот же самый момент, к большому своему удивлению и, как всегда, явно не по своей воле, опроверг дикий навет весьма, как оказалось, наблюдательной партнерши.
«Бред, старик, – сказал он замминистру, – чепуха! С этой дамочкой у меня не было никаких дел, разве что разговор за бокалом шампанского о садистически-вандальских подробностях неосмотрительного сбрасывания в Днепр по приказу князя, якобы сиониста, Владимира – Перуна, кажется, Долговяза с Простоволосом и прочих наших истуканов. Неужели ты думаешь, что у меня нет в Голландии иных, проверенных рубенсовских телок с клубничными сосками и сливочными лядвиями?»
И первый, и повторный анализы крови Гелия дали отрицательные результаты. Бесы уберегли-таки его в те пару ночей в отеле от заразы, от болезни, бытового позора и медленного полыхания. А главное, науськали на глухую несознанку в беседе с замминистром. Правда, замминистр подозрительно поинтересовался, каким это образом дама, с которой Гелий, по его словам, не был близок, сумела рассмотреть родинку на его, как он выразился, «змее-удовлет-ворителе». Гелий многозначительно и строго ответил:
«Происки спецслужб Запада, а также утечка кое-какой постельной информации за рубеж от моих безответственных подружек».
Он даже хотел было изъявить каким-нибудь образом свою признательность демонишке, который, кстати, озабоченно и как-то намекающе крутился тогда на гостиничной простынке прямо перед носом у Гелия, старавшегося выглядеть в любовных беснованиях достойным представителем нашей могучей Империи. Но непревозмогаемая ненависть к нечистой силе, убившей его любовное счастье, помешала ему произнести даже мысленно слова персональной благодарности демонишке, как-то там помешавшему схватить не только СПИД, но и еще черт знает что. Речь шла, как сообщил замминистра, о шикарном бактериальном букете из феноменальной венерической коллекции пылкой религиеведки. Букет этот уже вошел в золотой фонд новейшей венерологии под названием «ТРИПТИХ-СПИДа»…
10
Одним словом, так бы и просачковал наш герой, опекаемый нечистой силой, до глубокой старости и до самой смерти, ни в чем никогда не нуждаясь. Лишь иногда, с похмелюги, испытывая боль души от воспоминания момента ужасной смерти на его глазах любовного счастья. Он жил немыслимо однообразной жизнью в огромной квартире или на даче, унаследованной после смерти родителей.
Но тут наконец-то переполнила вдруг чашу терпения Самого Времени окончательно уже непревозмогаемая брезгливость. То есть Время публично сблевало вдруг от полного ничтожества и застойной бездарности стратегов штурма Небес, более полувека нагловато считавших себя его – Времени! – Умом, Честью и, главное, Совестью.
Время, прикинув что-то там себе в своем уме, вступилось за свой обгаженный Ум, поруганную Честь и оскорбленную Совесть, да и приметило вдруг в Кремле самого чувствительного и слабовольного из высших наших руководителей. Избранник сей наивно принял рвотный спазм Времени за собственную историческую духовно-политическую инициативу.
Ну и слава ему, как говорится, думал Гелий, за то, что, покорствуя Времени, вынужден был этот незлобный человек и недалекий политик начать припудривание всех ядовитых краснот действительности да своевременно ремонтный шурум-бурум, названный Перестройкой.
Конечно, ему не могло не претить, что сей мало чем примечательный, но все же как-никак избранный самим Временем политик носится за рубежом в спецколяске триумфатора. Тут, понимаете, навалены горы неисчислимых черепов, тут на ваших глазах разворашиваются ужасающие могилы прошлого и обнажаются горестные развалины российской цивилизации, тут еще либо маются за решетками, либо пребывают в неизвестности те, которые перли бесстрашно на бойницы тупой нашей поросячьей власти, а он там триумфально себе носится, а он там себе принимает как должное лавры единственного избавителя человечества от варварского нашествия коммунизма и спасителя собственного народа от самоубийственной бездари коммуняк… «Вот и понимай: безвкусная ли все это глупость матушки-истории или мстительно-уродливая ее ирония над бесславно загубленными мертвыми и душевно выпотрошенными живыми», – думалось Гелию порою.
В те самые времена им овладело вдруг чувство бесконечно тоскливого бессилия, обострившего и так достаточно болезненную раздвоенность умственных настроений.
Релвера воспрянула вдруг не только в своих церковных щелях, где покорно она себе ютилась и елейно лелеяла того, с маленькой буквы, кого не было и нет, но выпорхнула она бесстыже даже на страницы партийных газет и журналов. Торжествующе и кадяще вновь заняла она и загадила все основные укрепрайоны и насесты научного атеизма, то есть умы, сердца и души миллионов врасплох застигнутых и совершенно растерявшихся штурмовиков Небес.
Раскудахталась-раскукарекалась так нахраписто, словно не сворачивал Гелий релвере этой голову, не обрубал крылья, не ощипывал до малейшего перышка и не осмаливал так, как папа Револьвер осмаливал на участке дачной хазы тушки фазанов первой фазы. Партия этих редких птиц была прислана с острова Мадагаскар тамошними народно-освободительными силами к ноябрьской трапезе членов нашего Политбюро…
Беда победы релверы – так Гелий называл происходящее – ужаснула его необычайно. Он попробовал возвыситься над духовным смятением общества, вновь охмуряемого клобуками, кардинальскими тюбетеечками, бабочками – белыми на черном, чалмами, голыми черепами и веселыми хасидскими пейсиками под старомодными шляпами.
Пытался найти общий язык с толпой, взяв однажды в Доме композиторов ноту скабрезно-вольтерьянскую. Однако он не только резко был осажен левыми и правыми, но и гнусно заклеймен всей этой перетрухнувшей, растерянной публикой в центральной прессе.
Все выходило так, что будто бы в банкротстве кретинов-вождей и в трагической катастрофе нации похабно был повинен именно он и ему подобные безбожные плеваки во всесильные Небеса, а вовсе не преступная партия штурмовиков и не ленинско-сталинская архитектура общего нашего лагерного барака, удобная для жизнедеятельности разве что только красных клопов и прочих бытовых паразитов.
Мол, не плевали бы вы Туда, не учили бы если и нас плевать, то, может, и не отвратился бы от империи нашей Некто, скорей всего и судя по всему объективно существующий и пристально всевидящий, но почему-то не данный нам в ощущении, в отличие от дефицита, разгула преступности, быстрой смены красной кожи старыми партийными змеями и беспредельного блядства молоденьких повы-лупившихся гадов коммерции и политики.
Глубоко задетый всеобщим оборотничеством, Гелий впал в отчаянную иронию, то есть в состояние постоянного, нетрезвого глумления над действительностью. Тем более средств на многолетний запой, с учетом инфляции, прогрессирующей тупости премьера, соревновательных словесных баталий экономистов с политиками и даже трагического иссякновения источников спиртного, ему, пожалуй, могло хватить до конца столетия.
11
В конце декабря опальному нашему религиеведу позвонили вдруг из посольства Кубы, где он довольно часто поддавал на ревбанкетах.
Спросили, не будет ли он так любезен выступить недели через три после католического Рождества на латино-американском карнавале-симпозиуме в Гаване, посвященном проблемам научного атеизма. Маска – на ваш вкус и выбор. Из мыслящих товарищей и господ ожидается большой друг Советского Союза, нобелевец Гарсия Маркес, наложивший «большую кучу табу» на свою Музу до дня объявления победы социализма на Кубе – острове Свободы.
«Там у нас, – добавили, неловко подлаживаясь под великую идиоматику и фольклоризмы нашего русского, – в тесноте не обидно, тепло, светло, одна сигара – хорошо, две – еще лучше, и мухи не кусают, то есть товарищ Ром – господин, но мыслящий Сахарный тростник – батюшка-матушка».
Гелий понял, что приглашение исходит от видного борца с Ватиканом, лично от самого Фиделя, и что ему на том тропическом симпозиуме уготована ведущая научно-карнавальная роль под какой-нибудь импозантной маской.
Он поблагодарил посольского чина и согласился выступить на одной из панелей весьма престижного, весьма представительного форума.
Лететь он решил на обратном пути через Штаты, чтобы обделать там кое-какие «твердокаменные» делишки с бывшим своим коллегой, обитавшим в Нью-Йорке, под эгидой ООН.
Быстро оформил благодаря старым связям все документы и визы. Достал билеты первого класса, отслюнявив массажистке посла одного афроатеистического государства пару тысяч «памятников деревянного зодчества».
Когда все у него было на мази, он позвонил бывшей тайной любовнице Берии, растленной этим палачом чуть ли не в школьном вальсе, но отвальсовавшим собственную жизнь самым поучительным образом – на своей же производственной плахе, измызганной мозгами и осколками шейных позвонков однопартийцев.
Женщине этой было уже за шестьдесят. Как все дамы, с юных лет мистически тяготеющие к мужчинам и драгоценностям, да к тому же проведшие всю жизнь в коммунистически праздной неге, выглядела она демонически прекрасно.
Гелий никогда не был в постельной связи с этой дамой, поскольку его раздражал не возраст ее, а слишком выдающиеся зубы. Казалось даже, что это и не зубы вовсе, а огромные зубья вставленных в рот двух старинных гребней из пожелтевшей от времени слоновой кости.
Трудно было понять, что привлекло Лаврентия Павловича к этой во всем остальном восхитительной даме. Если Гелию нравилось в какой-либо из дам все вместе – лицо, фигура, нрав, прическа, кожа, размер ноги, интимные свойства и так далее, то уже ничто не могло не понравиться в отдельности, а если не нравилось что-то по мелочам, пусть даже манера пить чай, мазать шершавые руки очень дорогими кремами, притворно вытаращивать глаза на то, чего дама вовсе не понимает, читать во время ужина «Крокодил», курить в постели или засыпать в грустной позе курицы, перепутавшей насесты, то, естественно, было ему тогда, к сожалению, не до остальных прочих прелестей…
Гелий не раз вывозил за рубеж фамильные – так, во всяком случае, она их называла – драгоценности К-ой. Сам-то он, конечно, догадывался, что многие из прелестных «погремушек» преподнесены были даме всесильным палачом, любившим после казней покопаться в скорбном конфискате.
Гелий издавна проходил в Шереметьеве через пункт для особо важных персон, которым абсурдное государство наше всегда доверяло настолько, что каждая из них могла бы уверенно вывезти в невзрачном дорожном бауле любую национальную реликвию – заспиртованную, скажем, наиболее революционную часть серого вещества Ленина; замороженный живчик Сталина, готовый к секретному введению в гостеприимную матку одной голливудской кинозвезды, с детства сочувствовавшей коммунизму; соболью шапку Мономаха или еще что-нибудь в этом же роде.
Что уж там говорить о колье скифской красавицы, вывезенном Гелием и сплавленном затем джентльменами-перекупщиками одному из князей нефтяных недр, или об античной броши жены глупого либерала Саввы Морозова, доугодничавшего некогда на наши головы перед всякими босяками!
Но, по вполне понятной причине, охотней всего Гелий вывозил за бугор старинные миниатюрные предметы религиозного культа. Вынет иногда в самолете из кармана складенек, принадлежавший чуть ли не боярыне Морозовой, и тычет мстительно «изделием» в фигурку возникшего вдруг на подлокотнике и злорадно гогочущего – по вполне понятной причине – демонишки. Тот всполошенно тушуется. Самолет, к удивлению пилотов, начинает ужасно потряхивать.
«Бардак, – тоскливо думает Гелий в очередной раз, – его, с маленькой буквы, – нет, а Они – есть. Почему? Зачем? Неужели ж вообще никак нельзя без всей этой чертовщины, но при одном лишь уютном полумраке хотя бы всемирного агностицизма и восхитительном пританцовывании высшей математики с формальной логикой?… Хорошо бы вот сейчас взорваться с треском над океаном – и к севрюге, с прилавков давно пропавшей, пойти на дно! Да и сказать там вместе с этой вкусной умной рыбой: пропадите вы все пропадом с народными телепатами СССР, с ужасным графоманом-юристом, двуглавым графоманом Осеневым-Лукьяновым, с амбалом Полозковым, с К-ой, с научным атеизмом и способом принципиально дурацкого существования бестолково-белкового тела Нины Андреевой!»
Самолет тут же справляется с необыкновенно странной дрожью в крыльях. И Гелий понимает, что не дадут ему типчики подохнуть ко всем чертям. Не дадут. Не дай-то Бог, оговаривается он в тоске, если тут попахивает вариантом бесконечного, адского мучения, хотя такое зверство противоречит всем фундаментальным законам науки… За что?…
Одним словом, перед полетом на Кубу К-ая вручила Гелию нечто, завернутое в кусок старой фланели и крепко перевязанное шелковой веревочкой. Сказала, что это изделие дороже ее и его жизней, вместе взятых. Тут же была оговорена доля перевозчика в очередной сделке.
Необходимо заметить, что К-ая бесконечно Гелию доверяла, а сам он тайно был самоублажен наличием в своей натуре чувства деловой чести, что, на его взгляд, неопровержимо свидетельствовало о совершеннейшей никчемности известного числа поповских заповедей.
Про себя Гелий отметил, что заработанной, долевой «зелени» ему хватит на много лет, даже при частых хождениях в валютку за коньяком, лимонами, вырезкой, гусиным паштетом, флорентийской ветчинкой, колготками и прочими мелкими презентиками для дам гостиничного типа.
Решив поинтересоваться перевозимой и столь драгоценной вещицей в самолете, он подумал, что жизнь такая хоть и тошнотворней небытия, но все же несравненно она кайфовей, чем у рядовых жертв перестройки, мающихся полдня в очередищах за немыслимо издевательской пародией на алкоголь.
Изделие он носил все эти дни в кармане. Костюмы, сорочки и галстуки не собирал, решив обновить весь туалет в Нью-Йорке. Было для него нечто в социальном смысле волшебное – улететь вот эдак, налегке, чуть ли не полуголым, но с изделием под мышкой и с одной лишь прелестной возможностью прибарахлиться на юге Италии, где не туфли натягиваешь на ноги, а в родственные конурки их помещаешь и где от качества плоти и общего вида сорочки по коже твоей пробегают вдруг мурашки, словно не в магазинчике милом ты в этот вот миг находишься, а валяешься, негою истомленный, на эротической кушеточке массажистки, бывшей филиппинской коммунистки-террористки. Валяешься, млеешь и думаешь, что, несмотря на очевидную бессмысленность феномена случайной жизни на Земле, ряд первоклассных удовольствий вполне способен уравновесить мрачную скуку личного существования и всю бездарную абсурдность окружающего мира. Вполне… Плавают еще золотые такие медальки жирка тонких возможностей на поверхности закисающего, захламленного человеком первичного бульона…
В приблизительно таком вот состоянии предвосхищения милых утех и радостных совершенств зарубежного быта Гелий пребывал уже пару недель.
И чем меньше времени оставалось у него до вылета из Москвы, тем острей и инфантильней не терпелось ему сбагрить с рук изделие, разделаться со всеми этими делишками, может быть, раз и навсегда, ко всем чертям, наварить бабок, расслабиться в Неаполе или во Флоренции, в тихом отельчике, гульнуть, обмыть навар, отмыться от латиноамериканского научно-атеистического бала-симпозиума, прибарахлиться, прелестную НН прибарахлить… – есть все ж таки во всем таком раскладе дел и в уютном течении дней тончайшее нечто, удивительно тебя примиряющее с поганой нечистью и гнуснейшими ударами Рока. Есть!…
Два кг первоклассной паюсной – для поддержки собственных сил и угощения в Гаване полуголодных комсомолок из кордебалета – взяты были за валюту у наследника отцовского партпита на Старой площади.
В тексте выступления на одной из панелей представительного форума Гелий припрятал – словно террористическую бомбочку, пронесенную в самолет, – изящную, как ему в те дни казалось, и не тривиальную для дубоватых схем научного атеизма теоретическую новинку.
Это было убойное доказательство того, что одно исключает другое, то есть что его, с маленькой буквы, нет, а Они, с буквы большой, являются отрицательной частью объективной реальности, данной нам в восприятии всех органов чувств, кроме обоняния.
Дело оставалось за карнавально-симпозиумной маской. На Старом Арбате, стоя перед лотком слегка хмельного народного умельца – явно расстриги-инспектора агитпропа из глубинки, – Гелий раздумывал, какой из многочисленных масок, отмеченных, надо сказать, истинным почтением к возрожденному ремеслу, удивить ему всех столпов мирового безбожия, большого друга нашей социалистической Родины, наивного троцкиста, писателя Маркеса и кубинскую партийную публику?