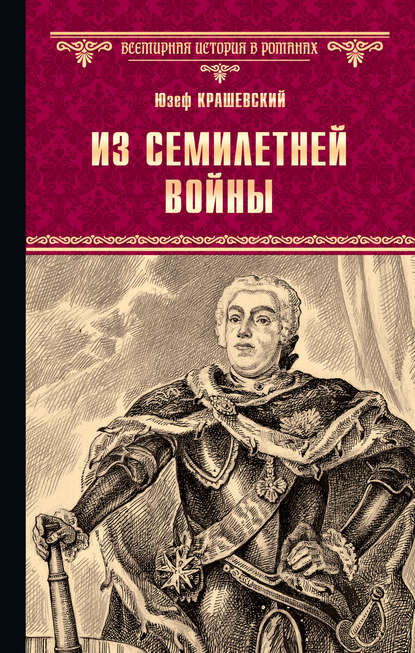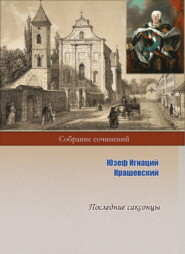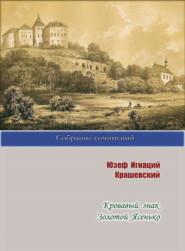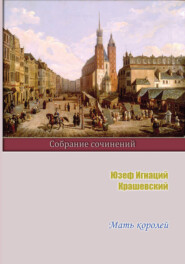По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из семилетней войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выбравшись из города, носилки могли поравняться; носильщики были опытные, шли ровно, и поэтому друзья могли беседовать по-французски, не опасаясь быть подслушанными. Оба они вспоминали о своем отечестве и больше говорили о Берне и своем детстве, проведенном под снежными Альпами, чем о Саксонии и настоящем.
Носилки остановились у ворот красивого дома; носильщик позвонил; ворота открылись, и их донесли до лестницы, где уже ждали два лакея. Блюмли взял своего друга под руку и повел наверх.
Симониса все это удивляло.
– Не женат? – спросил он, осматривая свой дорожный костюм.
Блюмли отрицательно покачал головой и рассмеялся.
– Бог миловал, – вздыхая ответил он.
Двери отворились, и они вошли в просторный зал, очень красиво убранный, по пословице: «какой барин, такие слуги». От него они заимствуют все и принимают даже его физиономию. Так при Августе Сильном роскошь, блеск и избыток вошли в моду и у саксонцев. Двор искал любовных похождений так же, как и король, тратил много денег и любил своего властелина настолько, насколько мог ему подражать. Его сын перенял от него любовь к роскоши, веселью, балам и охоте. Брюль тратил больше всех, несмотря на это, он оставил после себя несколько миллионов. Его свиту считали сотнями, а Геннике, начавший свою службу с должности лакея, впоследствии иначе не ездил, как с четырьмя лакеями. Самые мелкие чиновники и те стремились к роскоши; они щеголяли одеждой, старинным фарфором и ценными безделками…
Таким образом, жизнь при дворе прусского короля представляла резкую противоположность жизни Августа. У Фридриха II никогда не было даже полудюжины рубах: он ходил в грязном белье и старых сапогах. В торжественные дни зажигались свечи только в той зале, где были гости, а когда они переходили в другую, то та освещалась, а в первой свечи тушились, вследствие чего на свадьбе одной из принцесс гостям пришлось довольно долго стоять в потемках. В боковых залах зажигали только по одной свечке; во всем остальном соблюдалась такая же экономия; зато в кассе, на случай войны, лежало семьдесят шесть миллионов талеров, и Фридрих II во время Семилетней войны хоть и переплавил часть серебра на деньги и выпустил фальшивые талеры, но ни у кого не одолжался и никому не был должен… Стол, одежда, содержание двора, все было у него рассчитано. На просматриваемых им счетах он расписывался и делал на полях надписи, чтобы, по его выражению, канальи не крали! Имея такой пример перед глазами, двор привыкал к расчетливости, тем более что и жалованье получалось самое скромное.
В Саксонии же, где Брюль жил по-царски и где одно оперное представление иногда обходилось в сто тысяч талеров, всем хотелось подражать королю и Брюлю, каждый чувствовал потребность в роскоши. А в то именно время, с которого начинается это повествование, в Саксонии была замечательная опера и всего 15 тысяч войска, тогда как в Пруссии театр был мизерный и туда ходили только солдаты, но зато было 150 тысяч под ружьем. Саксония была по уши в долгах, а Пруссия имела наличный капитал.
После скромной квартиры в Берлине помещение такого маленького человека, как Блюмли, в высшей степени поражало Симониса. Два лакея постоянно вертелись по комнатам с удобной, мягкой мебелью, отличным освещением, зеркалами, дорогим фаянсом, картинами; словом, все говорило о достатке, если не богатстве. Лакеи являлись по первому зову; хотя комнаты не особенно были велики, зато имели вид самого теплого гнездышка. Симонис оглядывался, точно он неожиданно попал в заколдованный замок.
– Это твоя квартира? – спросил он своего соотечественника.
Блюмли не переставал грустно улыбаться; его лицо выражало скорее утомление, нежели счастье.
– Да, эта квартира моя, и все, что ты видишь в ней, принадлежит мне, – ответил он.
– В таком случае тебя можно поздравить.
– Ах!.. – вздохнул Блюмли. – Благодарю за поздравление… – И опустил глаза.
Они сели рядом. Подали вино, фрукты, конфеты и пирожные.
– Судя по всему, ты занимаешь хорошую должность… важный пост? – прибавил Симонис.
– Я? Как тебе сказать… Я один из запасных секретарей министра, – тихо отвечал Блюмли, точно стыдясь этой должности, – но этим путем у нас можно всего достигнуть.
– И много у тебя занятий?
– Утром – два-три часа в канцелярии, – отрывисто сказал он, – а вечером… по вечерам я должен быть в комнатах.
– Странно, что ты, добившись такого счастья, кажешься мне как будто недовольным своей судьбою и каким-то кислым.
Чтобы скрыть свое дурное расположение духа, Блюмли принужденно засмеялся. Ему не хотелось объяснять дальнейших подробностей, и он переменил разговор.
– Ну а ты, что думаешь делать? – спросил он.
– Объяснить довольно трудно. Думаю ко всему присмотреться, поучиться… Вообще, мне не к спеху… Причина моего приезда сюда, – прибавил он, привирая очень ловко, как начинающий дипломат, – очень важная. Рассуди сам. Тебе известно, что Аммоны мои близкие родственники. Приехав в Берлин, я сейчас же отправился к старому советнику; но он обошелся со мной, как с собакой, и почти указал на дверь… Ну, я дал себе слово обойтись без его помощи и, выхлопотав рекомендательные письма, приехал сюда, чтобы постоянно вертеться перед его носом… Месть мне эта прекрасно удается; сегодня, не успел я приехать, как имел уже случай посчитаться с ним на улице.
Блюмли слушал с напряженным вниманием.
– Ты говоришь, что у тебя есть рекомендательные письма?.. Не могу ли узнать к кому?
Симонис немного смешался, так как боялся довериться ему.
– Разве я сказал о письмах? – прервал он. – У меня только одно и то к Бегуелину.
– К Бегуелину!.. – с пренебрежением повторил Блюмли. – В таком случае мне очень жаль тебя, мой друг, и здесь я не могу помочь… Это все равно, что если бы ты имел это письмо ко мне, маленькому человеку… Бегуелин!.. Что же для тебя может сделать этот прусский резидент? Только скомпрометирует… Мы здесь не терпим пруссаков… Мы – это значит Брюль, а Брюль здесь – все…
– Ну, я называть себя пруссаком вовсе не желаю, так как я бежал из Пруссии, чтобы не умереть с голода, – прибавил Симонис.
Блюмли, казалось, призадумался.
– Я тебе желаю всего лучшего, – начал он, – но если ты желаешь чего-нибудь добиться, то нет иной дороги, как познакомиться с Брюлем и устроить так, чтобы он в тебе нуждался…
Блюмли снова задумался, вздохнул и опустил глаза.
– Разве ты тоже шел по этой дороге? – спросил Симонис.
Швейцарец посмотрел на него с любопытством.
– Да, – ответил он и, встав, начал ходить по комнате, заглядывая во все двери; но убедившись, что никто их не подслушивает, уселся возле Симониса и начал шепотом: – Да, друг мой, через женщин здесь многое можно сделать; исключая королевы, которая живет молитвами да сплетнями, все остальные любят молодых людей и ищут развлечений в их обществе… Если твое сердце свободно, а увядшие и отчасти потерявшие первичную форму прелести тебе не противны… то испытай свое счастье.
Симонис улыбнулся и долго ничего не отвечал.
– Что ж? – наконец, отозвался он. – Кто хочет добиться известного положения и состояния, не должен дорожить собой… Я даже предпочитаю женщин в летах… К тому же обречь себя на вечную неволю я не имею особенной охоты.
Симонис рассмеялся каким-то притворным смехом.
– При прусском дворе, – сказал Блюмли, – женщины не имеют никакого значения. Королева живет точно в изгнании, а Фридрих никогда не влюбляется и с прекрасным полом обращается так же, как и с солдатами на учении. Здесь же, начиная от старой Фаустины, немолодой Мошинской и не первой молодости жены Брюля, – все женщины окружены кавалерами… и духовенство не без греха… – прибавил он еще тише. – Здесь иной свет.
– Не лучше прусского, – ответил Симонис, – но здесь, должно быть, легче втереться в него и безопаснее жить.
– Здесь безопаснее!.. – прервал его Блюмли, сделав гримасу. – Ты думаешь, что безопаснее? Не забудь, что там есть Кюстрин и Шпандау, а здесь Кенигштейн и Плейсеннбург, и тебе, как кандидату будущих симпатий, не мешает знать историю Сциферта…
– Какого Сциферта?
– Я мог бы завтра утром показать его тебе где-нибудь в предместье, так как сегодня он уже освобожден; но ему еще нельзя показываться в городе… Шесть лет тому назад Сциферт был секретарем министра при военном ведомстве, и графиня его очень любила, потому что он был так же красив, как и ты. Сегодня же от него остались кожа да кости. Желтый, сгорбленный и постоянно кашляет. У него есть домишко в предместье, где он в бедности будет доживать свои последние дни.
– В чем же он провинился? – с любопытством спросил Симонис.
– Как тебе это объяснить… я даже, право, не знаю! Он влюбился в молодую служанку старой графини, очень красивую девушку. На него донесли завистники, и он лишился своего места. Из мести к Брюлю он поступил неосторожно, посылая письма в Голландию, чтобы подорвать там его кредит. Письма были перехвачены, и Сциферт осужден на казнь, но графиня вступилась за него, и он отделался позорным столбом на рынке, где палач заклеймил его и отвез в тюрьму.
Блюмли побледнел; он не мог больше выговорить ни слова и вынужден был выпить глоток вина, чтобы продолжать:
– Сциферт просидел шесть лет в Кенигштейне, в сырой конуре, без солнца, без воздуха, не имея никакой надежды на спасение и не смея ни с кем поговорить. Шесть лет, друг мой!.. Разве это не то же самое, что быть шесть лет в предсмертной агонии? Понимаешь ли ты, что значит в продолжение шести лет просидеть без света и людей молодому человеку, преисполненному жизни и испытавшему все прелести наслаждений! Шесть лет царапать ногтями холодные стены тюрьмы!..
Симонис вздрогнул.
– Ну, брат, о подобных милостях ты мне лучше не говори, – взволнованно сказал он. – Не дай господи… Это не для меня. Лучше поговорим о чем-нибудь другом.
Носилки остановились у ворот красивого дома; носильщик позвонил; ворота открылись, и их донесли до лестницы, где уже ждали два лакея. Блюмли взял своего друга под руку и повел наверх.
Симониса все это удивляло.
– Не женат? – спросил он, осматривая свой дорожный костюм.
Блюмли отрицательно покачал головой и рассмеялся.
– Бог миловал, – вздыхая ответил он.
Двери отворились, и они вошли в просторный зал, очень красиво убранный, по пословице: «какой барин, такие слуги». От него они заимствуют все и принимают даже его физиономию. Так при Августе Сильном роскошь, блеск и избыток вошли в моду и у саксонцев. Двор искал любовных похождений так же, как и король, тратил много денег и любил своего властелина настолько, насколько мог ему подражать. Его сын перенял от него любовь к роскоши, веселью, балам и охоте. Брюль тратил больше всех, несмотря на это, он оставил после себя несколько миллионов. Его свиту считали сотнями, а Геннике, начавший свою службу с должности лакея, впоследствии иначе не ездил, как с четырьмя лакеями. Самые мелкие чиновники и те стремились к роскоши; они щеголяли одеждой, старинным фарфором и ценными безделками…
Таким образом, жизнь при дворе прусского короля представляла резкую противоположность жизни Августа. У Фридриха II никогда не было даже полудюжины рубах: он ходил в грязном белье и старых сапогах. В торжественные дни зажигались свечи только в той зале, где были гости, а когда они переходили в другую, то та освещалась, а в первой свечи тушились, вследствие чего на свадьбе одной из принцесс гостям пришлось довольно долго стоять в потемках. В боковых залах зажигали только по одной свечке; во всем остальном соблюдалась такая же экономия; зато в кассе, на случай войны, лежало семьдесят шесть миллионов талеров, и Фридрих II во время Семилетней войны хоть и переплавил часть серебра на деньги и выпустил фальшивые талеры, но ни у кого не одолжался и никому не был должен… Стол, одежда, содержание двора, все было у него рассчитано. На просматриваемых им счетах он расписывался и делал на полях надписи, чтобы, по его выражению, канальи не крали! Имея такой пример перед глазами, двор привыкал к расчетливости, тем более что и жалованье получалось самое скромное.
В Саксонии же, где Брюль жил по-царски и где одно оперное представление иногда обходилось в сто тысяч талеров, всем хотелось подражать королю и Брюлю, каждый чувствовал потребность в роскоши. А в то именно время, с которого начинается это повествование, в Саксонии была замечательная опера и всего 15 тысяч войска, тогда как в Пруссии театр был мизерный и туда ходили только солдаты, но зато было 150 тысяч под ружьем. Саксония была по уши в долгах, а Пруссия имела наличный капитал.
После скромной квартиры в Берлине помещение такого маленького человека, как Блюмли, в высшей степени поражало Симониса. Два лакея постоянно вертелись по комнатам с удобной, мягкой мебелью, отличным освещением, зеркалами, дорогим фаянсом, картинами; словом, все говорило о достатке, если не богатстве. Лакеи являлись по первому зову; хотя комнаты не особенно были велики, зато имели вид самого теплого гнездышка. Симонис оглядывался, точно он неожиданно попал в заколдованный замок.
– Это твоя квартира? – спросил он своего соотечественника.
Блюмли не переставал грустно улыбаться; его лицо выражало скорее утомление, нежели счастье.
– Да, эта квартира моя, и все, что ты видишь в ней, принадлежит мне, – ответил он.
– В таком случае тебя можно поздравить.
– Ах!.. – вздохнул Блюмли. – Благодарю за поздравление… – И опустил глаза.
Они сели рядом. Подали вино, фрукты, конфеты и пирожные.
– Судя по всему, ты занимаешь хорошую должность… важный пост? – прибавил Симонис.
– Я? Как тебе сказать… Я один из запасных секретарей министра, – тихо отвечал Блюмли, точно стыдясь этой должности, – но этим путем у нас можно всего достигнуть.
– И много у тебя занятий?
– Утром – два-три часа в канцелярии, – отрывисто сказал он, – а вечером… по вечерам я должен быть в комнатах.
– Странно, что ты, добившись такого счастья, кажешься мне как будто недовольным своей судьбою и каким-то кислым.
Чтобы скрыть свое дурное расположение духа, Блюмли принужденно засмеялся. Ему не хотелось объяснять дальнейших подробностей, и он переменил разговор.
– Ну а ты, что думаешь делать? – спросил он.
– Объяснить довольно трудно. Думаю ко всему присмотреться, поучиться… Вообще, мне не к спеху… Причина моего приезда сюда, – прибавил он, привирая очень ловко, как начинающий дипломат, – очень важная. Рассуди сам. Тебе известно, что Аммоны мои близкие родственники. Приехав в Берлин, я сейчас же отправился к старому советнику; но он обошелся со мной, как с собакой, и почти указал на дверь… Ну, я дал себе слово обойтись без его помощи и, выхлопотав рекомендательные письма, приехал сюда, чтобы постоянно вертеться перед его носом… Месть мне эта прекрасно удается; сегодня, не успел я приехать, как имел уже случай посчитаться с ним на улице.
Блюмли слушал с напряженным вниманием.
– Ты говоришь, что у тебя есть рекомендательные письма?.. Не могу ли узнать к кому?
Симонис немного смешался, так как боялся довериться ему.
– Разве я сказал о письмах? – прервал он. – У меня только одно и то к Бегуелину.
– К Бегуелину!.. – с пренебрежением повторил Блюмли. – В таком случае мне очень жаль тебя, мой друг, и здесь я не могу помочь… Это все равно, что если бы ты имел это письмо ко мне, маленькому человеку… Бегуелин!.. Что же для тебя может сделать этот прусский резидент? Только скомпрометирует… Мы здесь не терпим пруссаков… Мы – это значит Брюль, а Брюль здесь – все…
– Ну, я называть себя пруссаком вовсе не желаю, так как я бежал из Пруссии, чтобы не умереть с голода, – прибавил Симонис.
Блюмли, казалось, призадумался.
– Я тебе желаю всего лучшего, – начал он, – но если ты желаешь чего-нибудь добиться, то нет иной дороги, как познакомиться с Брюлем и устроить так, чтобы он в тебе нуждался…
Блюмли снова задумался, вздохнул и опустил глаза.
– Разве ты тоже шел по этой дороге? – спросил Симонис.
Швейцарец посмотрел на него с любопытством.
– Да, – ответил он и, встав, начал ходить по комнате, заглядывая во все двери; но убедившись, что никто их не подслушивает, уселся возле Симониса и начал шепотом: – Да, друг мой, через женщин здесь многое можно сделать; исключая королевы, которая живет молитвами да сплетнями, все остальные любят молодых людей и ищут развлечений в их обществе… Если твое сердце свободно, а увядшие и отчасти потерявшие первичную форму прелести тебе не противны… то испытай свое счастье.
Симонис улыбнулся и долго ничего не отвечал.
– Что ж? – наконец, отозвался он. – Кто хочет добиться известного положения и состояния, не должен дорожить собой… Я даже предпочитаю женщин в летах… К тому же обречь себя на вечную неволю я не имею особенной охоты.
Симонис рассмеялся каким-то притворным смехом.
– При прусском дворе, – сказал Блюмли, – женщины не имеют никакого значения. Королева живет точно в изгнании, а Фридрих никогда не влюбляется и с прекрасным полом обращается так же, как и с солдатами на учении. Здесь же, начиная от старой Фаустины, немолодой Мошинской и не первой молодости жены Брюля, – все женщины окружены кавалерами… и духовенство не без греха… – прибавил он еще тише. – Здесь иной свет.
– Не лучше прусского, – ответил Симонис, – но здесь, должно быть, легче втереться в него и безопаснее жить.
– Здесь безопаснее!.. – прервал его Блюмли, сделав гримасу. – Ты думаешь, что безопаснее? Не забудь, что там есть Кюстрин и Шпандау, а здесь Кенигштейн и Плейсеннбург, и тебе, как кандидату будущих симпатий, не мешает знать историю Сциферта…
– Какого Сциферта?
– Я мог бы завтра утром показать его тебе где-нибудь в предместье, так как сегодня он уже освобожден; но ему еще нельзя показываться в городе… Шесть лет тому назад Сциферт был секретарем министра при военном ведомстве, и графиня его очень любила, потому что он был так же красив, как и ты. Сегодня же от него остались кожа да кости. Желтый, сгорбленный и постоянно кашляет. У него есть домишко в предместье, где он в бедности будет доживать свои последние дни.
– В чем же он провинился? – с любопытством спросил Симонис.
– Как тебе это объяснить… я даже, право, не знаю! Он влюбился в молодую служанку старой графини, очень красивую девушку. На него донесли завистники, и он лишился своего места. Из мести к Брюлю он поступил неосторожно, посылая письма в Голландию, чтобы подорвать там его кредит. Письма были перехвачены, и Сциферт осужден на казнь, но графиня вступилась за него, и он отделался позорным столбом на рынке, где палач заклеймил его и отвез в тюрьму.
Блюмли побледнел; он не мог больше выговорить ни слова и вынужден был выпить глоток вина, чтобы продолжать:
– Сциферт просидел шесть лет в Кенигштейне, в сырой конуре, без солнца, без воздуха, не имея никакой надежды на спасение и не смея ни с кем поговорить. Шесть лет, друг мой!.. Разве это не то же самое, что быть шесть лет в предсмертной агонии? Понимаешь ли ты, что значит в продолжение шести лет просидеть без света и людей молодому человеку, преисполненному жизни и испытавшему все прелести наслаждений! Шесть лет царапать ногтями холодные стены тюрьмы!..
Симонис вздрогнул.
– Ну, брат, о подобных милостях ты мне лучше не говори, – взволнованно сказал он. – Не дай господи… Это не для меня. Лучше поговорим о чем-нибудь другом.