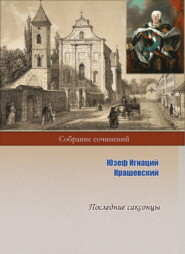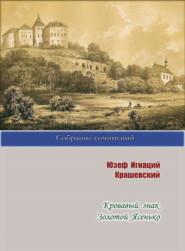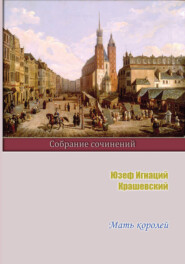По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сын Яздона
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Молчи же, подлый трутень! – громил Янич.
Ругань вовсе не помогала. Павлик, всё чаще выскальзывая из комнаты, стоял на пороге и поджидал, ловил девушку, заступал дорогу и почти принуждал к разговору. Задиристый был сверх всяких слов.
Раны от стрел как-то быстро начали заживать, потому что кровь имел здоровую и силы молодые, мог бы уже идти смело в Пжеманков к отцу или куда-нибудь в свет выбраться, но это несчастное искушение держало его в монастыре.
Впрочем, было ему там неплохо, потому что княгиня-мать, как убогих, так раненых и больных с панским милосердием всем обеспечивала, а работы не имели никакой. Янич с капелланом Лютольдом целыми часами беседовал о своём будущем призвании. Долго спорили о том, должен ли он стать сыном Доминика или Франциска.
Павлик, пустая голова, был за Франциска, из-за того, что и князь Болеслав Краковский, и княгиня Ядвига хотели размножать по стране его сыновей, осыпали их милостями, а может, также, что францисканцы имели больше свободы, ходя по свету, чем доминиканцы, запертые в монастырских кельях.
Янич же предпочитал быть сыном Доминика, потому что письмо кое-как знал, жаждал знаний, а в них там больше нуждались.
Третий их товарищ, немец Лузман, который также там лежал с ранами, и как немец имел у княгини особенные милости, ни в чего не вмешивался, ел, пил, спал, в костёл ходил, где дремал в уголке, но мог рекомендоваться княгине. Монастырское пиво было ему по вкусу.
Павлик за короткое время приобрёл там себе много приятелей и знакомых. Не говоря уже о сестре Луции, которую постепенно притягивал на свою сторону, украдкой всегда навязываясь ей по несколько раз в день, влезал в избы хромых и калек, везде его было полно. С нищими он обходился по-свойски и самым большим для него удовольствием было подстрекать их против друг друга, в их склоки подливать масло и доводить до того, чтобы ссорились, грызлись и били друг друга. Только тогда, когда вызывал такой ужасный шум, сам смеясь, выскальзывал, и тихо просиживал в общей избе, словно не знал ни о чём.
Такая жизнь продолжалась до мая, стало быть, недели четыре. Павлик был уже совсем здоров, но ему ещё из Кросна в свет не хотелось.
Янич замечал, что он всё чаще выскальзывал из избы, больше проводил времени во дворах, бывал задумчивым и менее разговорчивым.
Одного дня он начал вздыхать, что ему уже нужно бы домой и только сильного коня для путешествия не хватает.
Конь, на котором приехал, хромал. Янич ему своего был готов отдать, чтобы от него отделаться, потому что своим легкомыслием и высмеиванием всего уже ему надоел.
Начались торговаться о деньгах, остановились, наконец, на согласованном количестве пражских грошей, которые Павлик обещал заплатить. Но, получив коня, выезжать снова ему было не к спеху. Откладывал.
– Отец мой, – говорил Янич капеллану Лютольду, – вы не спускайте глаз с этого проклятого молокососа. Он святого места уважать не умеет и за девушками, по-видимому, волочится.
Как бы беды не было.
Ксендз сильно возмутился.
– Что за мысль! – воскликнул он. – А здесь набожные женщины, посвящённые Богу, монастырь всё-таки, в котором дух нашей княгини оживляет всех…
Янич смолчал и уже больше говорить о том не решался.
Одного вечера Павлика долго в избе не было, а дело было к ночи. Янич услышал в монастыре какой-то шорох и беготню.
Вбежал кто-то из челяди, оглядел углы и выбежал.
Через какое-то время прибежал капеллан Лютольд с заломленными руками к Яничу, задыхаясь.
– Где этот ваш Павлик?
– Разве я знаю?
Ксендз ударил по голове и как можно живей выбежал назад из избы. Янич не мог догадаться, что произошло. Лузман, который после пива уже спал, разбуженный, пошёл на разведку.
Вернулся не скоро, хмурый, пожимая плечами, крутя головой. Янич узнал от него, что Павлик похитил коня, но и сестры Луции в монастыре не было. Догадались, что он украл девушку и увёз с собой.
За ними уже во все стороны разослали погоню. Слушал ошеломлённый Янич, потому что у него такое нахальство не могло поместиться в голове. В час, в который обычно все спали, было ещё сильное движение, страшное беспокойство.
Люди возвращались из напрасной погони, о беглецах ни следа, ни слуха. Только после полуночи что-то у калитки зашумело. Посланный Климек, придворный княгини Ядвиги, с челядью, привёл связанного Павлика, но был ранен, порезан, потому что тот яростно защищался.
Взяли и сестру Луцию, которая клялась, что своевольный парень похитил её без её воли, завязав ей уста, и со своей добычей помчался голопом в лес.
Связанного, как стоял, посадили виновника в тюрьму. Его могло ждать суровое наказание, потому что княгиня подобные нападения не привыкла прощать. Люди не могли надивиться дерзости и ловкости, с какими оно было совершено. Все согласно говорили, что за это он должен поплатиться жизнью.
Назавтра, когда как раз надеялись услышать что-нибудь о суде и приговоре, пришёл к Яничу Лузман, сплюнул и сказал:
– Вот его уж нет!
– Что? Дали его казнить? – крикнул Янич. – А исповедался?
Немец взмахнул рукой.
– Он сбежал ночью из тюрьмы, негодяй, уж его не велели преследовать. Где-нибудь в лесу пропадёт, потому что вроде бы вырвался без оружия.
В Пжеманкове у ложа старого Яздона сидел ксендз Зула, чудом выбравшийся из Лигницы; он рассказывал ему плачевную историю татарского нападения, когда дверь отворилась – и кто-то встал на пороге.
Сначала Зула не мог узнать, кто был, потому что пришелец выглядел страшно оборванным. Только приблизившись к нему, он радостно вскрикнул, узнав, что тот, которого считали погибшим, стоит перед ним живой.
В то же время произошло чудо, потому что старый Яздон, который столько лет не владел половиной тела, одним глазом ничего не видел, когда услышал о сыне и бросился, чтобы его обнять, поднял обе руки, открыл погасший глаз, встал на обе ноги.
Нюха и Муха, которые были готовы его поднять, испуганные этим зрелищем, с криком разбежались.
И была в доме радость великая, но короткая. Старый отец, которому Бог дал обеими руками обнять сына, той же ночью уснув, навеки закрыл глаза…
Великая радость вылечила его и убила…
Тогда несовершеннолетний юноша стал паном великих волостей и собственной воли. Зула, который остался при нём, молился, чтобы теперь, отпустив себе поводья, быстро не пропал.
Хотя своего воспитанника он очень любил, хотя ему там хорошо было и тихо, клеха после похорон старика едва мог несколько месяцев выдержать в Пжеманкове. Там начался сущий ад, из которого ни вырваться сразу не имел силы, ни равнодушно смотреть на то, что делалось. Достойный клеха долго с собой боролся, пока однажды, взяв под мышку агенду, несколько своих книг в руку, не вышел с палкой пешком из городка, и его уже больше там не видели, потому что вернулся в Краков в храм Св. Ендрея.
I
Прошло четверть века с описанных событий, и те, кто подростками помнили Доброе Поле под Лигницей, стали мужами, те, что были старцами при первом татарском потопе, давно в могилы пошли покоиться.
В канун святого Матфея, в тот год (1266) умер благочестивый краковский пастырь Прандота. Как благословенного уже при жизни, его почтили торжественным погребением. У могилы происходили чудеса.
После осиротения краковской столицы нужно было выбирать нового пастыря, и весь капитул собрался на совещание.
В не слишком обширной комнате, довольно тёмной, ещё прежде чем начались прения, из лиц присутствующих и фигур можно было понять, что знали заранее, что единодушного выбора не будет.
Были это по большей части духовные лица средних лет и пожилые, лица одних увядшие и бледные, других – круглые и сильно воспалённые, худые и полные – представляли два лагеря; тех, что вели духовную жизнь, забывая о теле, и тех, которые нежили его, заботу о душе оставляя на последний час.
Одним из тех, возле которых больше всего сосредотачивались с великими знаками уважения, был ксендз Якоб из Скажешова, старец уже очень преклонного возраста, небольшого роста, невзрачный, щуплый, низенький, с чёрными, но очень поредевшими волосами, скромный и боязливый.
Был он и деканом Краковским, и схоластиком Бамбергским, и каноником Вроцлавским и папским, и капелланом чешского короля. Учёный законник, человек набожный, имел он у людей славу и уважение, и в капитуле преобладающий голос. Тот стоял молча, нахмуренный, с поникшей головой, грустный, а забрасываемым его вопросами отвечал довольно равнодушными движениями, как бы сомневался, что тут на что-нибудь может пригодиться.
Ругань вовсе не помогала. Павлик, всё чаще выскальзывая из комнаты, стоял на пороге и поджидал, ловил девушку, заступал дорогу и почти принуждал к разговору. Задиристый был сверх всяких слов.
Раны от стрел как-то быстро начали заживать, потому что кровь имел здоровую и силы молодые, мог бы уже идти смело в Пжеманков к отцу или куда-нибудь в свет выбраться, но это несчастное искушение держало его в монастыре.
Впрочем, было ему там неплохо, потому что княгиня-мать, как убогих, так раненых и больных с панским милосердием всем обеспечивала, а работы не имели никакой. Янич с капелланом Лютольдом целыми часами беседовал о своём будущем призвании. Долго спорили о том, должен ли он стать сыном Доминика или Франциска.
Павлик, пустая голова, был за Франциска, из-за того, что и князь Болеслав Краковский, и княгиня Ядвига хотели размножать по стране его сыновей, осыпали их милостями, а может, также, что францисканцы имели больше свободы, ходя по свету, чем доминиканцы, запертые в монастырских кельях.
Янич же предпочитал быть сыном Доминика, потому что письмо кое-как знал, жаждал знаний, а в них там больше нуждались.
Третий их товарищ, немец Лузман, который также там лежал с ранами, и как немец имел у княгини особенные милости, ни в чего не вмешивался, ел, пил, спал, в костёл ходил, где дремал в уголке, но мог рекомендоваться княгине. Монастырское пиво было ему по вкусу.
Павлик за короткое время приобрёл там себе много приятелей и знакомых. Не говоря уже о сестре Луции, которую постепенно притягивал на свою сторону, украдкой всегда навязываясь ей по несколько раз в день, влезал в избы хромых и калек, везде его было полно. С нищими он обходился по-свойски и самым большим для него удовольствием было подстрекать их против друг друга, в их склоки подливать масло и доводить до того, чтобы ссорились, грызлись и били друг друга. Только тогда, когда вызывал такой ужасный шум, сам смеясь, выскальзывал, и тихо просиживал в общей избе, словно не знал ни о чём.
Такая жизнь продолжалась до мая, стало быть, недели четыре. Павлик был уже совсем здоров, но ему ещё из Кросна в свет не хотелось.
Янич замечал, что он всё чаще выскальзывал из избы, больше проводил времени во дворах, бывал задумчивым и менее разговорчивым.
Одного дня он начал вздыхать, что ему уже нужно бы домой и только сильного коня для путешествия не хватает.
Конь, на котором приехал, хромал. Янич ему своего был готов отдать, чтобы от него отделаться, потому что своим легкомыслием и высмеиванием всего уже ему надоел.
Начались торговаться о деньгах, остановились, наконец, на согласованном количестве пражских грошей, которые Павлик обещал заплатить. Но, получив коня, выезжать снова ему было не к спеху. Откладывал.
– Отец мой, – говорил Янич капеллану Лютольду, – вы не спускайте глаз с этого проклятого молокососа. Он святого места уважать не умеет и за девушками, по-видимому, волочится.
Как бы беды не было.
Ксендз сильно возмутился.
– Что за мысль! – воскликнул он. – А здесь набожные женщины, посвящённые Богу, монастырь всё-таки, в котором дух нашей княгини оживляет всех…
Янич смолчал и уже больше говорить о том не решался.
Одного вечера Павлика долго в избе не было, а дело было к ночи. Янич услышал в монастыре какой-то шорох и беготню.
Вбежал кто-то из челяди, оглядел углы и выбежал.
Через какое-то время прибежал капеллан Лютольд с заломленными руками к Яничу, задыхаясь.
– Где этот ваш Павлик?
– Разве я знаю?
Ксендз ударил по голове и как можно живей выбежал назад из избы. Янич не мог догадаться, что произошло. Лузман, который после пива уже спал, разбуженный, пошёл на разведку.
Вернулся не скоро, хмурый, пожимая плечами, крутя головой. Янич узнал от него, что Павлик похитил коня, но и сестры Луции в монастыре не было. Догадались, что он украл девушку и увёз с собой.
За ними уже во все стороны разослали погоню. Слушал ошеломлённый Янич, потому что у него такое нахальство не могло поместиться в голове. В час, в который обычно все спали, было ещё сильное движение, страшное беспокойство.
Люди возвращались из напрасной погони, о беглецах ни следа, ни слуха. Только после полуночи что-то у калитки зашумело. Посланный Климек, придворный княгини Ядвиги, с челядью, привёл связанного Павлика, но был ранен, порезан, потому что тот яростно защищался.
Взяли и сестру Луцию, которая клялась, что своевольный парень похитил её без её воли, завязав ей уста, и со своей добычей помчался голопом в лес.
Связанного, как стоял, посадили виновника в тюрьму. Его могло ждать суровое наказание, потому что княгиня подобные нападения не привыкла прощать. Люди не могли надивиться дерзости и ловкости, с какими оно было совершено. Все согласно говорили, что за это он должен поплатиться жизнью.
Назавтра, когда как раз надеялись услышать что-нибудь о суде и приговоре, пришёл к Яничу Лузман, сплюнул и сказал:
– Вот его уж нет!
– Что? Дали его казнить? – крикнул Янич. – А исповедался?
Немец взмахнул рукой.
– Он сбежал ночью из тюрьмы, негодяй, уж его не велели преследовать. Где-нибудь в лесу пропадёт, потому что вроде бы вырвался без оружия.
В Пжеманкове у ложа старого Яздона сидел ксендз Зула, чудом выбравшийся из Лигницы; он рассказывал ему плачевную историю татарского нападения, когда дверь отворилась – и кто-то встал на пороге.
Сначала Зула не мог узнать, кто был, потому что пришелец выглядел страшно оборванным. Только приблизившись к нему, он радостно вскрикнул, узнав, что тот, которого считали погибшим, стоит перед ним живой.
В то же время произошло чудо, потому что старый Яздон, который столько лет не владел половиной тела, одним глазом ничего не видел, когда услышал о сыне и бросился, чтобы его обнять, поднял обе руки, открыл погасший глаз, встал на обе ноги.
Нюха и Муха, которые были готовы его поднять, испуганные этим зрелищем, с криком разбежались.
И была в доме радость великая, но короткая. Старый отец, которому Бог дал обеими руками обнять сына, той же ночью уснув, навеки закрыл глаза…
Великая радость вылечила его и убила…
Тогда несовершеннолетний юноша стал паном великих волостей и собственной воли. Зула, который остался при нём, молился, чтобы теперь, отпустив себе поводья, быстро не пропал.
Хотя своего воспитанника он очень любил, хотя ему там хорошо было и тихо, клеха после похорон старика едва мог несколько месяцев выдержать в Пжеманкове. Там начался сущий ад, из которого ни вырваться сразу не имел силы, ни равнодушно смотреть на то, что делалось. Достойный клеха долго с собой боролся, пока однажды, взяв под мышку агенду, несколько своих книг в руку, не вышел с палкой пешком из городка, и его уже больше там не видели, потому что вернулся в Краков в храм Св. Ендрея.
I
Прошло четверть века с описанных событий, и те, кто подростками помнили Доброе Поле под Лигницей, стали мужами, те, что были старцами при первом татарском потопе, давно в могилы пошли покоиться.
В канун святого Матфея, в тот год (1266) умер благочестивый краковский пастырь Прандота. Как благословенного уже при жизни, его почтили торжественным погребением. У могилы происходили чудеса.
После осиротения краковской столицы нужно было выбирать нового пастыря, и весь капитул собрался на совещание.
В не слишком обширной комнате, довольно тёмной, ещё прежде чем начались прения, из лиц присутствующих и фигур можно было понять, что знали заранее, что единодушного выбора не будет.
Были это по большей части духовные лица средних лет и пожилые, лица одних увядшие и бледные, других – круглые и сильно воспалённые, худые и полные – представляли два лагеря; тех, что вели духовную жизнь, забывая о теле, и тех, которые нежили его, заботу о душе оставляя на последний час.
Одним из тех, возле которых больше всего сосредотачивались с великими знаками уважения, был ксендз Якоб из Скажешова, старец уже очень преклонного возраста, небольшого роста, невзрачный, щуплый, низенький, с чёрными, но очень поредевшими волосами, скромный и боязливый.
Был он и деканом Краковским, и схоластиком Бамбергским, и каноником Вроцлавским и папским, и капелланом чешского короля. Учёный законник, человек набожный, имел он у людей славу и уважение, и в капитуле преобладающий голос. Тот стоял молча, нахмуренный, с поникшей головой, грустный, а забрасываемым его вопросами отвечал довольно равнодушными движениями, как бы сомневался, что тут на что-нибудь может пригодиться.