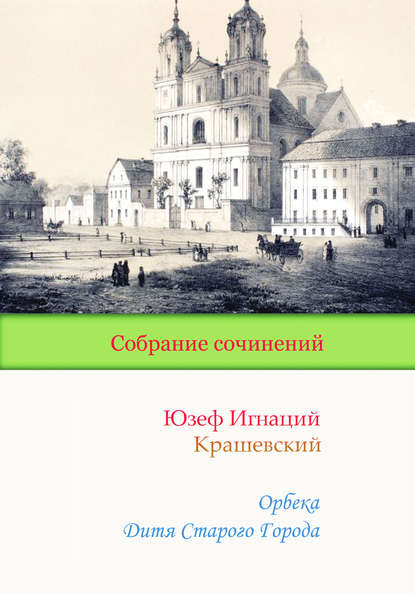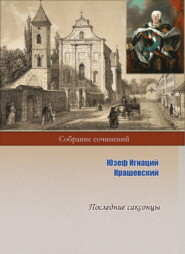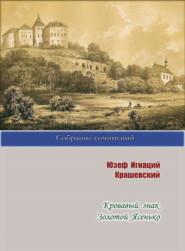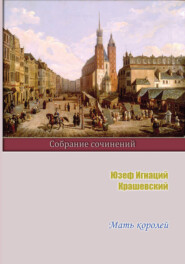По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Орбека. Дитя Старого Города
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он испробовал свет, но не насладился им, в его груди остались посыпанные пеплом горячие желания, он чувствовал себя неуверенным, слабым, знал почти наверняка, что его голова закружится, что будет несчастным.
Но жизнь, ах! эта жизнь, даже в страданиях имеет столько прелести!
И бедный Орбека румянился сам перед собой, видя, что тем ветром, что толкнёт его на волну, была горсть золота, издевательски брошенная ему судьбой.
Было что-то дьявольское в этом испытании, на какое он был выставлен, счастливый, спокойный или удовлетворённый, по крайней мере, онемелый, застывший… он чувствовал себя подхваченным фатальной силой из этого порта в море.
Несколько раз он повторил себе:
– Почему бы не отречься от всего и остаться так, как есть? Но человеческая слабость есть наиболее странной из софисток; она ему отвечала:
– Почему же, если это золото тебя обременяет, не использовать его и не распорядиться им лучше, чем смогли бы иные? Разбросать его, раздать, разложить мудро по шкафам.
Бедный заблуждался.
Среди этих мыслей проходил поздний вечер, уже была ночь; сад, облитый росой, в жемчужинах которой кое-где поблёскивал месяц, полный благоухания, тени и птичьих песен, казался ему раем, из которого должен быть изгнан.
Он припомнил свои прогулки, мечты и музыку, и живопись, и книжки.
– А это единственные удовольствия жизни, после которых нет пресыщения, не оставляют мути, вечно пьётся и желается, а душа выходит чистой, всё более прозрачной, всё более сильной, как бы подготовленная к лучшему свету.
Он сорвал ветку берёзы, которая облила его холодными слезами ночи и дождём увядших цветочков, и побрёл к своему клавикорду На нём лежала любимая соната Бетховена, одна из тех его последних, вдохновлённых невыразимой борьбой чувств и мыслей в хаотичном бою, болью, взывающей к Богу. Была в ней вся жизнь человека. Allegro его молодости, свежее и благоухающее, largo влюблённости, менуэт пира и свадьбы, потом, словно в насмешку, отрывок похоронного марша и финал, полный грёз и тоски старости, хотя полный ещё недогоревшей жизни.
Для Орбеки эта соната была почти всей его историей, воспетой ему ясней, чем он сам мог её рассказать; сел и пальцы сами побежали по клавишам с той немилосердной энергией, какую имеет человек только в избранные минуты жизни, чувствуя в себе возрастающую силу, как бы чем-то высшим над собой, чем-то лучше самого себя.
А когда он закончил играть, только тогда заметил, что по распалённому его лицу ручьём текли слёзы, горячие слёзы, каких давно не ронял. Он омывал ими ту дорогу, которую должен был пройти, которая манила его и была для него страшной, искушала его и пугала, манила и устрашала одновременно.
Но уже старый вчерашний человек уступал в его груди место новому незнакомцу. О! Унижающе слабым есть человек, даже когда знает это своё несчастье; внутренние влияния как тараном разбивают камни стен его убеждений, рушится то, что должно было охранять, плачет над руиной и уступает победителю.
С ужасом пан Валентин сам заметил перемену, какая в нём произошла; не был собой, чувствуя ещё, что им быть перестал. Мечтал, желал, был опьянён и не владел своей волей.
Все эти мечты, которые раньше не смели переступить порога и исчезали перед его холодным лицом, теперь, осмелевшие, обнаглевшие, насмешливые сидели у него на груди и голове, играли связанным, надевали на него путы и тащили.
Мечтал, а мечта убивает, отравляет и опьяняет. Напрасно он пытался оттолкнуть призрак, не имел в себе той вчерашней силы, которая его против него вооружала.
Он встал с заломленными руками от клавикорда, бледный, разгорячённый.
– Сталось, – сказал он себе, – а стало быть, новое испытание жизни, испытание без веры, без завтра, без любви; последняя проверка, похороны спокойствия и молитвенной тишины. Поглотит буря? Поглотит… Что же, одной песчинкой, утонувшей в море, станет меньше.
А с крыльца от сада пели ему в берёзах соловьи прощальную песнь и ветер обливал его весенним ароматом лесов, а луна одевала пейзаж словно серебряным саваном.
Подкоморий Буковецкий, если хотел выступить, то умел. Развлекались там часто, потому что двор был полон молодых девушек, тут же игры, пиры, гости, танцы, сани, праздничные скрипки, именины, дни рождения, поминки, майовки, посевные нигде так прекрасны не бывали, так веселы и удачны, как здесь. Двор имел уже ту традицию хорошей гостиницы, что в нём никто не боялся ни перед обедом неожиданно прибывающего десятка особ, ни кортежа подъезжающих саней. Сама хозяйка, подкоморий, девушки умели так всем заправлять, что никогда не замечалось ни малейшей обеспокоенности.
А когда уже было время подготовиться к приёму, то выступали, что называется. Подкоморий имел своих поставщиков, рыбу в корзинах, некоторую дичь, запасы деликатесов и даже музыку по заказу.
Этот оркестр не был изысканным: первый скрипач, на один глаз слепой еврейчик, но артист, хотя бы его в Варшаву послать, тогда бы не посрамился, двое кларнетистов, также еврейских, из тех один феноменальный, громкая и страстная виолончель, вдобавок бубен. Больше трудно на деревне требовать. Виртуозы тем отличались, что часто, играя по восемнадцать часов кряду, все спали, а поэтому работали вот так уже механически, по привычке. Только первый скрипач не спал, но зато был всегда пьяный, что добавляло ему огня. Никто так мазурку не умел играть, как он, ноги сами рвались, подагрики двигались, словно скрипки были какими-то – как говорится – зачарованными.
Аронка молодёжь также часто целовала в энтузиазме, и любили его девушки, несмотря на то, что одного глаза не хватало и это место было некрасиво прикрыто волосами и ермолкой.
После совещания с подкомориной, которая ни тучностью, ни юмором не уступала мужу, совещания такого таинственного, что ни одна из девушек даже через отверстие для ключа ничего подслушать не могла, потому что разговор происходил тихо, – обед, на который был приглашён Орбека, решили сделать очень роскошным.
Мать только то замечание сделала мимоходом дочкам, что могли бы на тот день надеть платья лиловые с розовым, недавно привезённые из Варшавы. Панны по разному это себе объясняли и считали за знак великих, каких-то великих замыслов.
За щукой, которой не хватало в корзине, специально послали повозку в Кодин, откуда и свежее мясо должно было приехать. Приготовления были таких размеров, как на именины, даже рюмка, называемая Philosophorum, по причине, что на ней были выбиты Сократ, Платон и Аристотель, была добыта из сафьяновой коробочки, в которой обычно покоилась.
Всё как-то на удивление складывалось. Лазарек, корчмар, ни о чём не зная, удачно на этот пир привёз огромного угря, при виде которого душа хозяйки порадовалась, решила его подать с изюмом и копчёным соусом, а повар приготовил таким образом аппетитно. Около полудня, накануне, снова сверх всех ожиданий, лесничий Сапежинский, которому позволяли косить луга на границе, привёз огромного оленя. Корейка и жаркое с вертела со сметаной – отличное второе блюдо, хозяйка ходила, напевая. Уже меньше заботились о щуке, которую должны были подать, согласно программе, с шафраном, но хоть бы её не было, можно было обойтись без неё.
Одним словом, всё приготовили к вечеру с лёгкостью, успешные звёзды светили этому соседскому пиру. Но часто судьба так насмехается, попросту говоря, над человеком, допустит его к желанному источнику, и только тогда схватит за воротник, – прочь!
После обеда подкоморий сидел на крыльце и напевал, барабаня пальцами по столику, на котором должны были подать ему кофе, тот деревенский кофе с настоящей пенкой, с миндалём в сахарной глазури, наш кофе, который никто никогда не пил за границей.
Затем его внимание обратили клубы пыли. На деревне в долгие одинокие дни клубы пыли на дамбе, увиденные издалека, представляет загадку, над разрешением которой иногда весь двор пробует свою догадливость. Выходят все на крыльцо: пан, пани, слуги, челядь с фольварка, хлопцы из конюшни, каждый присматривается, раздумывает и пытается отгадать; пыль приближается, видны кони, потом карета, но часто это бывает обманчивая отара овец. В этот раз подкоморий был один; встал, приложил ко лбу руку, прижмурил глаза и воскликнул:
– Я шельма, гости! Гости! – добавил он через минуту.
И позвал жену.
Вышла жена, поглядела и ударила в пухлые ручки.
– Карета, жёлтая даже, но кто это может быть?
Затем и весь дом был в движении, тем временем эта загадка приближалась всё больше, показалась овальная каретка, жёлтая, кони почтовые, сумок перед, за и на карете немеренно.
– Я шельма, бабы! – воскликнул невежливо подкоморий. – Потому что барахла много, но кто?
Начали угадывать – напрасно; действительно, трудно было угадать этого гостя, который прибывал за угрём и оленем, но гораздо менее них желанный.
В каждой семье есть более или менее дальние родственники, потерянные в свете, часто такие, которых бы не очень хотелось возвращать.
Одной из таких кузинок была племянница самой пани, славящаяся обаянием и кокетством, некогда панна Пальмира из Выхоловичей, баронова фон Зигхау, потом подчашина броцлавская Сироцынская, сейчас два раза разведённая, женщина, играющая большую роль на варшавской брусчатке. Было это существо, как утверждали, очаровательное, но превыше всяких слов непостоянное и кокетливое; её любовных интриг никто сосчитать не мог, они достигали всех краёв провинции, заграницы и разнообразных общественных сфер. Влюблялось в неё войско, духовенство, сановники, старые, молодые, паны, поэты, артисты, банкиры. Пани Пальмире (обычно называемой Мирой), несмотря на столько проделанных приключений, которые начались на шестнадцатом году жизни, было не больше двадцати пяти лет, была во цвете молодости, обаяния, в рассвете остроумия и умения сводить с ума, которое подняла до такой высокой степени, что шла в заклады, что каждому, кому захочет, закружит голову. Её очень развлекало, когда доводила мужчину до безумия и забвения, а, сказать правду, только это одно, может, представляло всю цель и интерес её жизни.
Разведёнка, свободная, достаточно богатая, по крайней мере, так годилось думать по её жизни, уничтожала жизнь самым чрезвычайным образом, видели её по очереди то у вод, то в столице, то на деревне, то собирающейся в очень дальнее путешествие, и везде, где бы не появлялась, тянулась за ней шеренга воздыхателей. Без тех обойтись не могла; когда эта армия её оставляла, тут же брала себе в рекруты новую, а удавалось ей это с наивысшей лёгкостью. Впрочем, одинаково легко потом отделывалась смехом и равнодушием либо насмешкой на назойливых.
Мира была маленького роста (хотя носила тревички на высоких коблуках), чересчур ловкая, кругленькая, белая и розовая, как сахарок; волосы blond, немного светлые, отдающие красным цветом, личико детское, округлое, с ямочками от улыбок, зубки как жемчуженки, ручки как у ребёнка, ножки до смехотворности малюсенькие. Но это паспортное описание, которое ничего ещё не говорит; не дают себя описать её глазки, фиглярный взгляд, то грустный и слезливый, то улыбчивый и пустой, переменчивое выражение лица, по которому, как в весенний день, мелькали тучки и безмятежность, пролетали слёзы и улыбки, угрозы и обещания. Ничего на свете более подвижного, чем это лицо, увидеть было нельзя; часто, когда она, грустная, опускала головку, через минуту, когда поднимала её, уже была волшебно сияющей. Смех и плач в её душе, казалось, держаться за руки. Иногда она была злая, как бесёнок, иногда добрая и мягкая, милосердная, слезливая, как ангел.
Фантазия управляла её сердцем и жизнью. Когда чего-нибудь желала, готова была на самые большие жертвы для достижения цели, а через мгновение потом, слезами купленное сокровище бросала на дорогу и топтала ножками. Так поступала с чувствами, людьми, со всем, что попадало в её белые ручки.
С этими недостатками, увы, Мира была восхитительной, можно было к ней привязаться, сойти с ума по ней и умереть, говорили также о нескольких, что жизнью заплатили за любовь, но она вздыхала только над их судьбой, вовсе не думая измениться или исправиться. Также кажется, что это было и слишком поздно, и напрасно.
Пани подкоморина уже очень давно не видела кузинки и не желала её вовсе навещать, потому что громко порицала её поведение и не хотела дочкам дать плохого примера, который так заразителен. Два развода и несколько десятков интриг делали её для всех простачков – женщиной пугающей. Поэтому можно себе представить удивление, неудовольствие, обеспокоенность хозяев, когда Мира, выскочив, как птичка, со смехом и слезами, из кареты, неожиданно напомнила им о себе.
Подкоморий с женой стояли в немом остолбенении, особенно он, по причине завтрашнего обеда, приглашённых гостей и Орбеки был обеспокоен.
Прекрасная пани легко заметила по лицам, что её приветствовали без большой радости, но это было для неё задачей для преодоления, ничего больше. Она так умела приобретать себе сердца, что ни на минуту не сомневалась, что до вечера, не позже, всех сбаламутит и головы им закружит.
Щебеча, подскакивая, растрогавшись от семейных воспоминаний, Мира прильнула сначала к подкоморию и полчаса его задабривала, потом постепенно вернулась к женщине, которую схватила за сердце, плача над воспоминанием о матери, бабке и семье. Наконец подхватила девушек и побежала с ними, шутя, в сад, как ребёнок, желающий простого детского развлечения.
Когда она ушла, они долго сидели напротив друг друга молча.