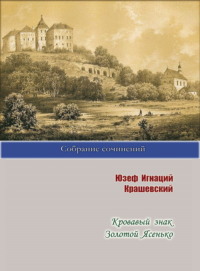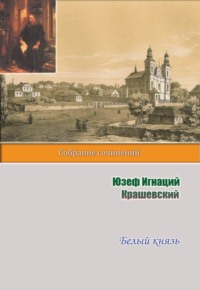Русский. Мы и они
Генрик смотрел на него, смеялся и, встав, поцеловал его в лоб.
– Чудесно говоришь, – сказал он насмешливо, – но нужно двенадцать лет ждать, пока освободимся с помощью этого рецепта.
– А с помощью иного не отобьёмся – это точно, – добавил Куба.
– Эй! Слушай, – прервал первый, стуча кулаком, – это хорошо для экзальтирования слабых женщин… а…
– Дорогой мой, согласно этой теории, женщина, ребёнок, старик – все солдаты дела, у нас будет их множество.
– Согласно моей, – сказал Генрик, – будет их миллионы, нужно вооружить крестьян, вызвать общее восстание; шляхту, которая идти не захочет, вешать.
Куба с сожалением пожал плечами.
– Ты знаешь наш народ? – спросил он. – За мной, за хоругвью, за священником он пойдёт на штыки и пули, за тобой не сделает ни шагу.
– А! Пусть для народа, – сказал Генрик, – революция приберёт физиогномику, какую хочет; конечно, конечно.
– Плохо говоришь, – подхватил Куба, – ты ищешь народные средства, забываешь о принципах…
– Революция, – шепнул Генрик, – не знает никаких принципов, революционная ситуация есть смешением всех социальных прав, всё можно, так как нужно победить.
– Вот именно в этом есть кардинальная разница наших понятий, – улыбаясь, говорил Куба, – вы говорите и делаете слово в слово так, как говорит и делает деспотизм… ваша революция – другой деспотизм, который, если бы продержался и правил, был бы, может, более страшным, чем тот, от какого мы хотим освободиться.
Наумов слушал, но убедить себя не давал, Генрик посвистывал.
– Революция есть революцией, – воскликнул он, – сделать её a l’ eau de rose невозможно… ей всё разрешено… она не отвечает ни за что, сбрасывает, переворачивает, уничтожает, сечёт, убивает, всегда права, ставит на месте их диктатуру, даёт всем своим слугам силу управления жизнью, имуществом, славой людей, что стоят на её дороге; когда её поджигает необходимость, подделывает монету, шпионит, предаёт, лжёт… но жертвой это награждает…
– Возвращение к деспотизму, в самом несчастном случае, через первого попавшегося генерала a la Bonaparte, – сказал Куба. – Нет, нет, господа мои, то, что вы говорите, является старой и избитой теорией. Понимаю её, потому что угнетение не могло сделать иной, но чую, что народ польский, если ему Бог даст восстановить независимость и свободу, не той дорогой их завоюет. Повторяю вам: пропоём её, выплачем, выстонем, подохнем в тюрьмах… не палашами сделаем. Мы уже не тот рыцарский народ, каким были, своей силой не подавим зверей апокалипсиса – никто не придёт нам на помощь… нужно сражаться духом и победить духом.
– Ты безумец, с позволения, – прервал Генрик, – Не гневайся, что так говорю, но отряду твоих поющих солдат с чётками в руках я бы предпочёл десять тысяч карабинов и столько же револьверов, а для них стойких солдат. Тем временем, пока их нет, надо бороться тайным заговором, страхом, терраризмом, убийством…
Куба вздохнул.
– Борьба злыми средствами никогда не получается и не приводит к хорошей цели, – воскликнул он, – но, даже по-человечески понимая, у вооружённой революции нет ни малейшего шанса на удачу. Для меня несомненно, что крестьяне за ней не пойдут, они не горожане, не любят земли, которую, тысячи лет обливая своим потом, ещё её не выкупили, Россия их легко возьмёт, устрашит. Они на нас не бросаются, но не будут с нами… из кого же ты ещё можешь создать отряд защитников родины? Из людей городов и усадеб? Увы! Это мелочь… а, вникнув в характер этого войска, можно от него ожидать великих жертв… но не большого успеха. Это будет отряд офицеров… а рядовых не хватает…
– Каждый из нас станет как простой солдат, – воскликнул Наумов.
– Много? – спросил Куба.
– Почему ты, духовный человек, спрашиваешь о численности? Нас сто пойдёт на тысячи…
– Верю в это, но спрашиваю о численности именно потому, что хотите сражения на кулаках и карабинах… эти сто вас, идущих за мной с открытой грудью на штыки… вы будете сражаться с тысячами, но жертвой, мученичеством… обратите миллионы… с величайшим героизмом не преодолеете неприятеля и его многочисленную, как саранча, дичь.
– Не ты нас, не мы тебя не переубедим, – сказал Генрик, – оставим друг друга в покое, революция есть необходимостью. Европа должна услышать о нашем вооружённом восстании, тогда восстанут другие движения в притесняемых краях… Австрия враждебна России, будет помогать нам молчанием…
– Вы мечтаете, – сказал академик, – будь что будет, подадим друг другу руку без ссоры, мы работаем для одной родины; время докажет, кто был прав… Случается и то, что мать-старушку дети душат от сильной любви. Мы не будем плевать на шляхту и аристократию, приписывая им эгоизм и избыток расчёта, потому что и они революции не хотят; половина их, может, действительно делает это из расчёта, из изнеженности, из страха потерять имущество, но есть инстинкт и в них… и они умеют чувствовать, что возможно… и они призывают к органичной работу…
– Это предатели! – воскликнули вместе Наумов и Генрик.
– Не отрицаю, есть среди них и предатели, и трусы, но есть и те, что видят лучше, чем вы, энтузисты… Не заступаюсь за них, потому что знаю их недостатки и они так же хорошо осуждают вас, как и меня… но…
– Ты неженка и баба! – сказал Генрик.
– Называй меня, как хочешь, когда пойдут все, пойду и я умереть, не откажусь отдать свою жизнь и кровь, это правда, но сделаю это с глубоким убеждением, что немало этой крови пригодится… Пожалуй, преобразит московскую толпу.
– Дорогой, ты, пожалуй, никогда не жил, не знал солдата, – прервал Генрик, – это существо, для которого понятен только один язык – батог. Напившись водки, он пойдёт, как дикий зверь, лишённый всякого чувства, отрубит руки и ноги, убьёт беззащитного… а, протрезвев, получив благодарность, будет считаться героем.
– Не думаю, чтобы пьяный солдат был более дикий, чем преторианцы, чем римские легионеры, чем та толпа, в которую медленно влилось христианство, – закончил Куба.
– Ты заблуждаешься этим фальшивым сравнением, мне кажется, – добавил Наумов, – нет ничего общего между пролитием своей крови и победой христианства, а также избавлением Польши.
– А ты обманываешь себя, мой брат, – живо ответил академик, – это продолжение той же истории. Польше не нужно ничего больше, чем то, о чём учил Христос и что дал миру как закон. Освобождая единицу, Спаситель освободил народы, одно логично идёт за другим, круша оковы рабства, Он не хотел бы, чтобы одно государство издевалось над другим, слуге так же как пану Он объявил равенство, так его предоставил людям. Но Евангелие с каждым днём больше становится мёртвой буквой, а костёл, который должен её объяснить, связал себе руки союзом с деспотами, но с Христового духа мы спустились на кощунственные комментарии литеры. Поэтому нужны новые миссионеры, чтобы науку Евангелии огласили кровью, не людям уже, а народам, а правителям и правительству. Вы хотите этого достичь, отрицая Евангелие своим поведением, средствами, какие должны использовать; я иду логично, как солдат Христа, веря только в силу духа и в победу духа. Дайте мне сто святых людей, готовых на смерть, и я завоюю мир.
– Они падут и мир будет смеяться.
– Да, падут и мир будет смеяться и хлопать под виселицами, но виселицы станут крестами, а на могилах танцующие пьяные солдаты будут обращены, не сегодня, так завтра…
– Мы не хотим ждать завтра! – сказал разгорячённый Наумов.
– Потому что хотите пользоваться – не работать! – отпарировал академик. – Потому что вы не доросли ещё до апостольства, вы готовитесь пойти и дать убить себя, но страдать целый век и крушить скалу по дробинке с настойчивостью тех анахоретов, что выдалбливали киевские пещеры, не сумеете. Свободу миру дадут не герои, а святые.
Два офицера рассмеялись, поглядывая друг на друга, Куба молчал и был грустен.
– Чувствую, – сказал он спустя мгновение, – что мои слова могут показаться вам нелепыми, знаю, что они не найдут ни поддержки, ни признания в массах – тем хуже, так как в них есть правда!
– Ну а я, – воскликнул Генрик, постукивая по кавказской шашке, – предпочитаю эту мою подругу и её помощь над всяким духом.
Куба подумал: «Они тебя воспитали, в их Бога ты и должен верить!» Но он не сказал этого громко, и когда два офицера о чём-то начали шептаться, он попрощался и вышел.
Наумов со времени приезда в столицу был под влиянием того, что его окружало, и хотя отказался от прошлого, оно тайно на него действовало. Рабская привычка чрезвычайно часто спорила в нём с мыслью, желающей улететь на свободу. Он боролся так между двумя мирами, которые в нём друг с другом сливались; временами Польша брала в нём верх, то снова московские привычки и привыкание. Добавим к этому воспоминание о Наталье Алексеевне, которого до сих пор никакое другое стереть не смогло. В мыслях Наумов часто сравнивал свою красивую сестрицу Магду с великолепной блондинкой с голубыми глазами, величественной, как царица, беспощадной, как те, что никогда ещё не нуждались ни в чьём милосердии.
Магда нравилась ему, он испытывал к ней братскую привязанность, видел её красоту и благородство, а всё-таки тот дьявол притягивал его к себе. В польской девушке, старательно воспитанной, но привыкшей к работе, скромной, тихой, набожной, весёлой, но суровой, было что-то требующее уважения, туда гнала всей своей музыкой чувственность и страсть… Наталья имела всё, что может дать блестящее образование, хотя основательных знаний больше было в тихой Магдусе. Та восполняла смелостью и рисовалась тем, чего даже не знала, эта из скромности скрывала в себе ум, науку, таланты.
Наумов чувствовал неизмеримое превосходство своей кузины и, однако, его больше восхищало воспоминание о той, чем сдержанность этой. Честная во всём Магда превосходила гордую и легкомысленную дочь генерала, а когда надевала фартучек и пела на кухне, помогая матери в работе, когда ему показывалась в полотняном халатике, не имела для него привлекательности сирены, которая с утра была надушенной, одетой в батист и стояла с оружием против неприятеля.
Несмотря на внешность крестьянки и хозяйки, Мадзя была страстной писательницей и очень музыкальной, но никогда не хвалилась тем, что сама приобретала тяжёлым трудом, а играла не прекрасные шумные пьесы, какими звучало фортепиано Натальи, но тихие, глубокие фразы Шопена либо грустные и дикие мечты Шумана. В ней ни слово, ни взгляд легко не улетали, когда Наталья без нужды разбрасывала их с расточительностью богача.
В русской каждый взгляд, каждая дрожь были рассчитаны на очарование, выученное, изобретательное и поднятое до высокого искусства; в польке всё было естественно, робко, по-детски. Мыслью и сердцем была эта женщина, по поведению – едва молоденькая девушка. Наумов иначе дрожал перед Натальей, иначе перед сестрой, которой боялся. Обе они казались ему тем высшими существами, которых в этом мире он не видел.
Очень справедливо признали русские по крайней мере половину заслуг, жертв и преданности польской женщины, она стояла и стоит на страже у домашнего очага, она воспитывает польских детей, будущее Польши, она геройски терпит без ропота больше, чем когда-либо сносили женщины иного народа; дочь, жена, мать стоят на недосягаемой вышине – рядом у стоп скорбящей Матери. Жизнь свободы подняла польскую женщину до достоинства гражданки, которого никогда не имела ещё ни одна русская женщина. В России найдёшь в женщинах верные сердца, но они ещё не бились для народа, для идеи, для правды, бьются для тихой радости семейного круга.
В низших классах общества женщина ещё развлечение, домашнее животное, служанка, хозяйка, мать, в высших – эмансипированный философ, сибаритка, роскошь, артистка-любовница, но нигде русских гражданок не найдёте. Те дамы, что несут венки для окровавленного Муравьёва, это невольницы невольников и любовницы бездумцев, у них ещё не засветилась мысль долга женщины, ангела покоя, посланницы христианской любви.
В большом свете женщины слишком испорчены, чтобы подняться до понимания своей миссии, в низших слоях – слишком мало образованные. Поэтому польская женщина среднего класса сердцем и душой стоит настолько выше отлично образованной русской, что её взгляд смущает и унижает женщину низших классов. Русские, удивлённо смотрящие, как поднимают кандалы, как тащутся пешком в изгнание и умирают наши героини в отвратительных лазаретах, прижимая к польским губам медальон Ченстоховской, – не поймут этого фанатизма. О! И долго понять его не смогут, пока их не навестит боль, пока их не сломает такое же страдание, как наше, пока не потеряют сыновей, братьев, мужей и отцов.
Наумову эти святые мученицы в грубом трауре казались почти страшными; привыкший проводить свою жизнь в легкомысленных развлечениях, он скучал и вздрагивал от этого странного режима работы жизни и сурового долга; везде встречал он слёзные взгляды, хмурые физиономии, лица, освещённые небесным вдохновением; не умел он жить в этой небесной атмосфере, но ценил её чистоту; как человек, что поднялся на вершину горы, должен привыкнуть к разряженному воздуху, так ему было там тесно и грустно.
Польша пугала его авторитетом мученицы, готовящейся идти на костёр. Если и зазвучала где-нибудь песнь, то о родине, если музыка – то из народных мелодий, в тихом разговоре пересекались новости только о деле; никто о себе не думал, а все думали о стране. Прибыв из той России, в которой никто о родине не думал и никто помогать ей не имел права, Святославу, должно быть, показалось очень странным, когда он нашёл тут всё общество думающим о судьбах общей родины, не считая даже жертв, не жалея себя, лишь бы страну избавить от ярма.
Это общее поведение невольно увлекало его, но на каждом шагу он встречал непостежимые виды, непривычные загадки. Однако каждый день вынужденный всё больше настраиваться на общий тон мира, что его окружал, Наумов проникался его идеями и понятиями.
Когда потом служебные обязанности гнали его в русское общество, когда его высылали в штаб на прослушку, в замок, чтобы получил оттуда информацию, он был в положении купающегося в бани человека, который вдруг из кипятка попадает в ледяной пруд. Там взгляд на вопрос, суждение о нём были настолько другими, так удивительно противоречили тому, что он слышал от поляков, и, казалось, были такими холодно-расчётливыми, когда там были такими горячо-возвышенными, что бедный офицер часто возвращался домой хмурый и в сомнениях, не зная, кому верить и что думать.
Так он остывал и разогревался, в свою очередь страдая, потому что не знал, чем эта борьба должна была закончиться, когда с обеих сторон встречались непримиримые требования. Поляки хотели всю свою Польшу, Россия хотела их завоевать, соглашение было невозможным, не было пункта, на котором бы самые умеренные из обеих сторон могли сойтись.
Известен этот момент, который отделяет 2 марта от апрельской резни; это был перерыв, созданный для того, чтобы дух народа имел время раскачаться и экзальтироваться. Россия, кажется, рассчитывала на это и ждала только знака, чтобы сильно ударить и сразу раздавить терроризмом. Польша не знала или не хотела видеть последствий, и воспользовалась часами свободы, чтобы вернуть всё, о чём тосковало. На улицах повторялись ежедневные манифестации, люди, словно оживлённые одной мыслью, не слушая предостережений более холодных, охваченные приливом энергии, требовали мученичества, вызывали его. Мы стояли в это время в том ещё положении, которое лучше выражал академик Куба, также академическая молодёжь управляла этими минутами. В целом вырабатывалось понятие какой-то безоружной, отважной, великой борьбы, безоружного люда, становящегося с обнажённой грудью против натиска без иной идеи, за исключением инстинкта самосохранения.
Уже в это время более горячие просили оружие и хотели броситься на угнетателя, но голос большинства преобладал. 2 марта получили победу не только над Россией, но над собственной порывистостью, она указала дальнейшую дорогу. Увы!
Действительно, не хватало по-настоящему великих характеров и индивидуальностей, которые могли бы остановить и управлять революцией медленней, не отклоняясь с раз выбранного пути.
Никто не знал, куда идти, едва несколько человек догадалось о нескольких шагах, куда идти не нужно, а те, которых народ до сих пор считал вождями, первыми отказались, признавшись в своей слепоте.
Когда это происходило, полк Наумова, вызванный вместе с другими в Варшаву, вошёл в неё частью на повозках, потом по железной дороге, и однажды утром появилась щебечущая, заинтригованная Наталья Алексеевна; лицо её сияло. Наумов, высохший от тоски, в первые минуты поддался манящим чувственным чарам, исходившим от неё.
Наталья, хотя немного испуганная мрачным обликом Варшавы, сильно была ею заинтересована, а так как Наумов один мог ей лучше объяснить множество вещей, до которых она была любопытна, он имел удовольствие через минуту всё её внимание обратить на себя. Очевидно, как влюблённый, он невольно это приписывал склонности девушки, которая столько же о нём думала, сколько о прошлогоднем снеге. Но никто не заблуждается легче тех, которые любят; они строят замки на льду и будущее на взглядах, имеющих совсем противоположное значение, чем то, что они в них читают.
По счастью, нанятое для генерала жильё, дочке пришлось по вкусу, следовательно, и он должен был быть ему рад, а Наумов получил то, что на русском языке называется благодарность. Благодарность того рода, когда они официально записываются как можно старательней в формуляр службы так же как официальный выговор. Каждый урядник и военный имеет такие curriculum vitae, без которого двинуться не может. Этот формуляр обычно бывает таким же точным, как в паспорте описание физиономии, по которой ещё никто никогда никого не узнал. Самые большие негодяи имеют самые чистые формуляры, когда самые заслуженные могут иметь самые плохие.
Наумов был ешё на допросе у любопытной русской, когда господин генерал вернулся с совещания в замок. Он был мрачен, но эта поддельная физиономия скрывала некоторого рода удовлетворение, что попал в Варшаву на знаменательные события. Генералу, как большей части его товарищей, не было дела ни до судьбы собственной родины, ни до злой Польши, которая не понимала благодеяний, какие ей предоставляла Россия; прежде всего он рассчитывал, сколько ему это может принести в карман, много ли крестов и какие личные выгоды. Чем более угрожающую форму принимала ситуация, тем, естественно, больше из неё следовало ожидать прибыли. Как раз пришёл адъютант графа, молодой петербургский щёголь, и старый полковник Черноусов, который из солдата дослужился до этого высокого ранга. Все были любопытны, о чём их известит генерал по возвращении из замка.
– Господа, – сказал Алексей Петрович, принимая как можно более официальную физиономию, – наш полк прибыл в очень решающие минуты. Нельзя прогнозировать, какие важные могут быть последствия. Обращаю ваше внимание на ответственность, какая на нас лежит. Оказыва-вается, что польские революционеры разбрасывают провокационные сочинения, пытаясь ввести в заблуждение солдат, что даже не всем младшим офицерам полностью можно доверять; речь идёт о чести полка, нужно быть очень бдительным, а за самым маленьким следом чего-то подозрительного долг каждого – немедленно давать об этом знать. С солдатом прошу обходиться как можно мягче, правительство желает этого, сегодня всё лежит на армии, солдат – опора государства. Однако же старшие имеют обязанность быть бдительными, чтобы среди низших ступеней не закралось вредное влияние. Я всегда был того мнения, что эти военные школы, которые господа развели в полках, выеденного яйца не стоят, они только баламутят солдата и кружат ему голову; теперь мы имеем наиформальнейшие приказы, чтобы всякие учения остановить. Солдат должен учиться работать оружием, не головой.
Генерал говорил ещё, когда Наталья оттащила Наумова в сторону.
– Вы, – сказала она, – знаете лучше Варшаву, можете мне тут послужить: узнайте, что играют в театре, достаньте для меня ложу, потом мне понадобится самый лучший портной, самый лучший парикхмахер, а так как будете иметь много работы со мной, то папенька вас от службы освободит. Вы будете адъютантом при мне.
Говоря это, она смеялась, а Наумов даже рос от радости, и то, что приобрёл за время пребывания в Варшаве, потерял в одну минуту. Всё, что не касалось Натальи и его любви, казалось ему теперь странным и почти смешным.
Когда в этот вечер ему было нужно пойти к Быльским, не узнали его там – так изменился и погрустнел. Только Куба при первом упоминании о приходе полка сразу догадался о влиянии, какое товарищи оказали на бедного Наумова. Из нескольких скептических слов академик узнал состояние его души, а когда мать и сёстры ушли, он обратился к погружённому в мысли офицеру:
– Слушай-ка, Станислав, я понимаю твоё положение, оно очень тяжёлое, это правда, но двум панам служить никогда нельзя, можешь или быть с нами или против нас. Нужно хорошо всё взвесить и не будешь так мучиться, как сегодня. Польское дело есть того рода, что требует жертв и не обещает ничего, кроме страданий; нужно вооружиться мужеством, дав клятву. По матери ты поляк, по отцу – русский, по бессмертному духу – вольный человек, не прислужник; я надеюсь, что ты выберешь себе лучшую участь, а не пойдёшь с той бездушной толпой, которую будут на нас натравливать. Генрик должен был тебе поведать, какими будут твои обязанности, я понимаю их немного иначе, потому что не хочу революции и бунтов, но апостольства и преображения.
– Эта напрасно, – сказал Наумов, – на нас обращены глаза, величайшее недоверие, уже сегодня полковник предостерегал, что правительство знает о намерениях польских революционеров.
– Вы думаете, что поэтому нужно отказаться от работы? – спросил Куба. – Это её только затрудняет, но нас от неё не освобождает.
Какое-то время молчали. Наумов был грустен; всё это вместе отравляло ему любовные грёзы, которыми страстно был занят. Возвратившись домой, он ходил пару часов, задумчивый, размышляя, что делать, Генрик его уже включил было в военный список, отступать было трудно, а Наумов не был ещё расположен к мученичеству.
Как раз на следующий день должна была быть сходка и совещание у Генрика, он решил не ходить на неё и постепенно эту работу оставить. Но, приняв это решение, он сам его сразу устыдился. Пришла ему в голову мать, судьба несчастной Польши, и он снова заколебался.
– Что будет, то будет, – сказал он, – от меня не много зависит, следовательно, увидим позже.
И так, колеблясь, с образом Натальи перед глазами он уснул.
Не раз замечали, что хотя иногда либеральные русские высказываются решительно, когда только приходиться подтвердить слова действием, особенно когда действие должно быть спонтанным и выходит за рамок повседневной жизни, отступают и сказываются чрезвычайно слабыми. Есть это, однако, очень легко объяснимым результатом привычки к деспотизму, который не может полностью спутать мысли человека, но становится на дороге любому действию. Отсюда русские воспитанники иногда отваживаются думать, но ничего делать не умеют.
Как раз таким был Наумов, в котором, кроме ослабевающего влияния страсти, отзывалось образование, делая его боязливым и неуверенным в себе. Имел он самые благородные желания, но ему не хватало энергии для свершения их.
* * *Случай, на первый взгляд маленький, больше поколебал расположение Наумова, чем можно было ожидать. В этот вечер нетерпеливая Наталья Алексеевна велела её с младшей сестрой отвезти в театр. Никто в то время, как известно, из местного населения в театре не бывал, играли, однако же, наперекор, перед пустыми креслами, которые изредка были заняты горсткой офицеров и погрустневшими артистами. Ложи были совсем не заняты, весь триумф красивой русской ограничился разглядыванием её в бинокль несколькими офицерами, которые в ней сразу по шику узнали петербургскую воспитанницу. Но дочке генерала, привыкшей к поклонникам в мундирах, мало было этой повседневной еды, ей досадно было то, что она одна сидела среди пустых лож, и, прежде чем кончилось представление, вышла, теряя терпение, недовольная, ругая Наумова, который её провожал. Перед воротами театра несколько уличных мальчишек как-то насмешливо на неё посмотрели, и это ещё прибавило ей плохого настроения; поэтому она вернулась домой в самом дурном расположении к Варшаве.
Но любопытная, как дочь Евы, услышав что-то о Саксонском саде, она велела Наумову на следующее утро отвести её на прогулку. На зло этим глупым полякам, как она их называла, и польскому трауру, она нарядилась на прогулку почти вызывающе, одела ярко-золотое платье с ярко-красными украшениями, шляпу с множеством колосьев и цветов и французский пёстрый платок. Через Новый Свет ещё как-то так прошли, но после за ними потянулась маленькая кучка уличных мальчиков, которая шипела и выкрикивала, потом их численность и смелость увеличились. Кто-то из них крикнул: «Папугай!», – другие начали это повторять за ним, и Наталья к величайшей злости заметила, что их окружает толпа людей, которые преследовали её до Саксонского сада, всё громче выкрикивая: «Попугай!»