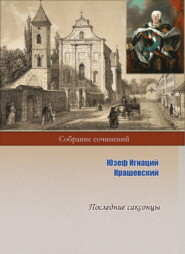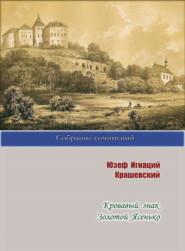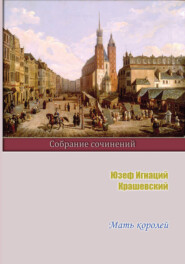По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хата за околицей; Уляна; Остап Бондарчук
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эй, слышь ты! Для чего сколачиваешь ты этот хлев?
– Для чего? Буду в нем жить, – спокойно отвечал Тумр, не отрываясь от работы.
– Что тебе вздумалось, на свою беду, приволочиться сюда? Мир ведь велик, много в нем места для вашей братии – слышь ты, эй?
– А чем я тебе мешаю? – отвечал цыган, – воздуху я твоего не выдышу, воды твоей не выпью, хлеба у тебя не выем, хватит на всех!
– Да зачем тебе было селиться непременно в нашей деревушке?
– Почему же мне в ней не селиться?
– Эй! Черт тебя побери, не прикидывайся простаком! Долго и с тобой растабарывать не стану, дело тебе говорят: ступай отсюда, иди на все четыре стороны, я куплю твою клетушку, только убирайся отсюда, не то…
– Не то что же?
– Да уж то, что тебе здесь не жить!
– Чем же я тебе помеха?
– Вишь, словно он ничего не знает. Эй, брат, выкинь из головы мысль о Мотруне. Говорю тебе, не будет в том проку, а честью не хочешь, так возьмут тебя черти.
Тумр молча принялся опять обтесывать кривой березовый брус.
– Слышишь! Возьмут тебя черти! – повторил Лепюк, взбешенный хладнокровием цыгана.
– Не знаю, кого прежде, – спокойно отвечал Тумр, – увидим!
– Увидим!.. Так ты не пойдешь отсюда?
– Не пойду я, не пойду, напрасно хлопочешь, хозяин.
Лепюк стукнул палкой в землю, стиснул зубы, отвернулся и поспешно удалился.
XIV
Через неделю хата была почти готова. Топор Тумра притупился; чтобы отточить его, он отправился по обыкновению к соседнему кузнецу и пробыл у него три дня. На обратном пути он невольно задумался о последнем своем свидании с Лепюком, об угрозах старика и о своих надеждах. Дойдя до поворота дороги к Ставискам, он вдруг увидел на вечернем небе синюю полосу дыма, уносимую ветром. Показалось ему, будто дым был как раз над тем местом, где стояла его хата. Он прибавил шагу – и стал как вкопанный: вместо своего будущего жилища он увидел груду дымящегося пепла.
Некоторое время стоял он неподвижно. Вид пепелища отнял у него всю бодрость, все мужество, крепко заныло его сердце и впервые со времен детства две крупные слезы покатились из его черных глаз, обжигая непривычные к ним щеки. Он стоял, скрестив руки, и смотрел, без слов, без мысли, почти как помешанный. Впрочем, эта немая, тяжелая скорбь была непродолжительна и перешла не в жажду мести, не в бешенство, а в решимость. Цыган поднял голову, вздохнул и быстро пошел к пепелищу. Он решился начать свой труд сызнова.
«Что раз сделал, сделаю и в другой раз, – рассуждал он про себя, – может быть, еще легче и лучше… а уж поставлю на своем. Покажу Лепюку – это ведь его дело – покажу ему, что меня не выкурить, как пчел из улья или комара из светлицы!»
С этою мыслью подошел он к самому пепелищу и стал осматривать, не осталось ли чего, что могло бы еще идти в дело. Тщетная надежда: огонь не пощадил ни кола, и в куче золы только дымились еще не совсем сгоревшие головни. Еще раз повел он вокруг себя печальным взором и бросился на землю под глинистым обрывом, который, накалившись от огня, рассыпался пылью. Он повесил голову и задумался. Шаги людей и шорох тащившегося по земле перевернутого плуга прервали его думу. Войт возвращался с поля со своими челядинцами. Поравнявшись с пепелищем, старик остановился и раскрыл рот, он не смел начать речь, угадывая, что происходило в душе цыгана. Тумр сам подошел к нему.
– Добрый вечер, пан войт! – сказал он.
– Не больно добрый для тебя, – отвечал войт с выражением сострадания. – Весь труд пропал понапрасну! Одна искра, и все ушло дымом!
– Не искра это виновата, а рука, что подбросила искру! – со вздохом возразил цыган. – Да что тут говорить, словами не воротишь прошлого, а мне не вешаться из-за этого!
– Что ж ты думаешь делать?
– Что?.. Завтра отправлюсь в лес и буду строиться заново.
– С ума ты что ли сошел? Где у тебя хватит силы?
– За силой дело не станет! – с уверенностью произнес цыган. – Думаю только, как бы мне огородиться, чтобы приятель не нажег мне опять угля, прежде чем я успею еще поставить кузницу.
Осторожный войт замолчал, даже не спросил, на кого падало подозрение в поджоге, впрочем, он очень хорошо знал, что речь могла идти об одном Лепюке.
– Так ты и в самом деле думаешь строить новую хату? – спросил он после некоторого молчания.
– Не дальше как завтра, – решительно отвечал Тумр, – благо я только что отточил топор: пойду завтра в лес.
– Помоги тебе Бог! – проворчал войт, погоняя волов и пожимая плечами, как бы хотел прибавить: славный был бы из тебя хлопец, жаль только, что цыган!
Тумр опять сел на пепелище, разгреб его дрожащей рукой, вынул из-за пазухи несколько картофелин, бросил их в золу и опять задумался. Картофель успел сгореть, а цыган не принимался за ужин, он все думал да думал. Наконец стало рассветать. С трудом поднялся он с места, усталый и разбитый, и, забросив топор на плечи, побрел в лес.
К счастью, место, назначенное ему для порубки на хату, было не так далеко, хотя и приходилось ему перебираться через два овражка и две горы.
По тропинке, которой он шел, повсюду видны были следы недавних его трудов, везде сохранились еще гладко убитые колеи от проволоченных по земле бревен, а около них валялись то недотесанные обрубки, то порванные жгуты или концы веревок.
Тумр прибрал теперь все эти остатки, чтобы пустить их в дело. Горесть его уже прошла, сменившись нетерпением приступить снова к работе – лучшему средству врачевания во всяком страдании.
Задумавшись, спускался он в лощину, как вдруг знакомый голос пробудил его:
– Добрый день, Тумр, добрый день!
Он оглянулся: в двух шагах от него стояла Мотруна, раскрасневшиеся глаза ее свидетельствовали о недавних обильных слезах.
– Добрый день, – с улыбкою произнес цыган, приближаясь к ней. – Что слышно?
– Разве ты не знаешь? Ходил ли ты к своей хате?
– Как же! Ночевал там при огне, – отвечал цыган, стараясь казаться веселым. – Что же делать? Сгорела, надо приниматься за другую.
– За другую? И опять одному? Да так долго ли себя во гроб вогнать! – сказала девушка с выражением глубокого участия.
– Бог милостив, не бойся, – весело отвечал цыган, – надо поставить на своем…
– А знаешь ли, отчего загорелась хата? – спросила Мотруна, устремив на Тумра испытующий взгляд.
– Знать-то не знаю… а догадываться можно: некому было поджечь ее, кроме твоего отца.
Мотруна печально опустила голову.
– Знаешь, – произнесла она тихо и осмотревшись кругом, – третьего дня Грыгор Скоробогатый опять засылал ко мне сватов, отец отвел меня в комору и стал грозить, чтобы я не отсылала их с отказом, но я все-таки отвечала, что не пойду. Вечор он выбежал, как бешеный, взяв кресиво и трут. У меня так и замерло сердце: быть, думаю, беде… и пошла плакать в огород. Спустя час вижу на горе, около кладбища, дым, тут высыпал народ, смотрит да кричит: цыганова хата горит! Никто и не думает тушить, только посматривают все на меня, а у меня, как я ни крепилась, слезы ручьем, так я и ушла скорее домой. Потом воротился отец, разгневанный, смотрю – весь трясется, словно бьет его лихорадка, лег, не поужинав, накрылся тулупом, и вот по сию пору не вставал, говорит, неможется ему.
Девушка глубоко вздохнула, помолчав немного, она продолжала: