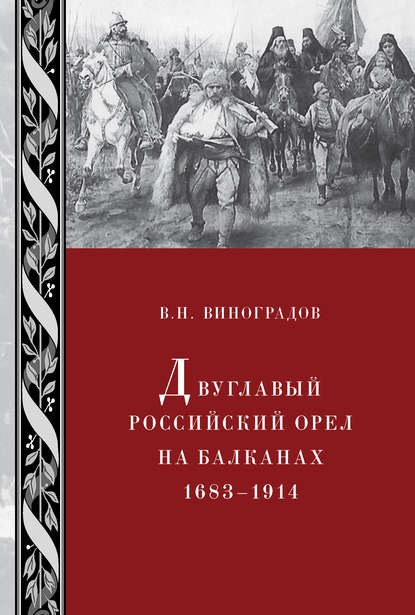По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двуглавый российский орел на Балканах. 1683–1914
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Трудности окружили государыню со всех сторон. Дела после безалаберного правления Елизаветы Петровны и тяжелой войны находились в плачевном состоянии. По словам самой Екатерины, «флот в упущении, армия в расстройстве, крепости разваливались», войска, находившиеся за рубежом, восьмой месяц не получали жалования, в пустой казне накопилось распоряжений на выдачу 17 миллионов рублей. 150 тысяч монастырских крестьян «отложились от послушания», приписанные к заводам крепостные волновались, жестокие пытки и наказания за безделицу озлобили умы[138 - Сб. РИО. Вып. 10. С. 330; Записки императрицы… С. 537–545, 582–584]. «Матушка Елизавета», случалось, неделями не прикасалась к бумагам, все недосуг, и Екатерине предложили, для облегчения ее монаршей участи, знакомиться лишь с резюме дипломатической переписки. Она пожелала читать всё. Ей, узурпаторше, нельзя было совершать ошибок. Свою немецкую аккуратность она поставила на службу российским интересам.
По привычкам она принадлежала к жаворонкам, вставала в 5–6 часов утра, зимой сама растапливала камин, дрова заготавливались с вечера. Однажды произошел конфуз: в дымоходе раздались отчаянные вопли, она спешно загасила огонь, и к ногам ее свалился трубочист. Он никак не ожидал, что повелительница империи в половине шестого уже на ногах. В одиночестве – занятия обширной перепиской, знакомство с бумагами. Чашка крепчайшего кофе с сухариком. Затем – прием секретаря, за которым следовали министры. От такой деловитости сановники отвыкли почти за 40 лет, прошедших со дня смерти Петра I.
Во весь рост встал вопрос: война или мир? Войска, отправленные в Данию, были отозваны: нечего портить отношения с Копенгагеном ради гольштинских интересов. Но и мир с Пруссией не был нарушен, несмотря на настойчивые обхаживания с австрийской стороны. Екатерина выразилась со свойственной ей определенностью: «Мир нужен этой обширной стране. Мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях»[139 - Там же. С. 621]. Необходимо по крайней мере пять лет для приведения дел в порядок. Наболевший вопрос о монастырских владениях был решен радикально: 8,5 миллионов десятин земли и 1 миллион душ перешли в ведение казны. Таможенные сборы отдавались на откуп за 2 миллиона рублей, Екатерина вернула их сбор государству, и одна Петербургская таможня стала приносить доход в 3 миллиона. Наступление мира позволило залатать финансовые дыры. Сенат определял доходы государства в 16 миллионов рублей, после обследования оказалось, что они достигают 28 миллионов[140 - Записки императрицы… С. 627; Ключевский В. О. Указ. соч. С. 252; Екатерина Великая– эпоха российской истории. СПб., 1996. С. 181;Madariaga I. Russia m the Age of Catherine the Great. L., 1981. P. 113, 118].
Все мыслимые факторы, внутренние и внешние, требовали от Екатерины сохранения мира. В стране – сумятица, беспорядок, безденежье, вовне – настойчивые австрийские призывы вернуться на поле боя. Во имя чего? Союз с Веной изжил себя. Между тем вопрос о Причерноморье не то что созрел, а перезрел. Торговля через Балтику не удовлетворяла хозяйственных нужд России. Один из членов Вольного экономического общества проводил на карте черту от Смоленска к Костроме и Воронежу, весь гигантский регион к югу от нее с плодороднейшими почвами он определял как кровно заинтересованный в сбыте продукции через Черное море, сухопутные перевозки обходились тогда в 50 раз дороже морских[141 - Дружинина Е. И. Указ. соч. С. 55–56]. А путь к морю преграждало Крымское ханство, вассал Османской империи. Переход от обороны к наступлению на нее становился неизбежен, то была предпосылка прогрессивного развития стремительно осваиваемой Новороссии, в будущем – экспортной житницы России. На юге – или примитивно-натуральное хозяйство поселявшихся там крестьян, которых никакие опасности налетов степняков и установленные договором 1739 года «бариеры» не могли остановить, или высокопродуктивное по понятиям того времени товарное производство. Но пока что Россия застряла у мелководного Азовского моря. Предстояло прорваться к Черному и нанести тяжелые удары Высокой Порте, чтобы обеспечить свободный вывоз зерна на европейские рынки. И тут пути России и Австрии разошлись. Альянс двух стран действовал в оборонительном варианте, обе были заинтересованы в отпоре турецкой агрессии. В «постоянном обеспечении от турок», как то было прежде, Россия больше не нуждалась и переходила в наступление на южном направлении, и тут Вена из союзника превращалась в соперника, считая Балканы зоной своего влияния и не желая допускать Россию к устьям Дуная или, упаси боже, позволить ее армии прорваться за великую реку. Петербург болезненно ощущал стремление Габсбургов поставить себе на службу дружбу с Романовыми. Они, по словам H. H. Панина, «еще привыкнуть не могут к «нашей инфлюенции в общих делах» и «ищут только пользоваться нами».
Эти факторы следует учитывать, обращаясь к российско-прусским отношениям. Было ли благоразумно после переворота внять австрийским призывам и вернуться на поле боя? В создавшихся условиях, вероятно, нет. «Мы затверделому в делах австрийскому самовластию и воле следовать не хотим и во взаимных интересах наших с оным двором ведаем определять истинное равновесие», – полагал Панин[142 - Чечулин И. Д. Указ. соч. С. 45]. Екатерина выражалась еще энергичнее, прибегая к крылатой фразе: «Время всем покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся». Возобладал тезис: «Россия независимо от других держав собою весьма действовать может». Крепло убеждение в том, что Европа больше нуждается в России, чем последняя в Европе, да и сами австрийцы в глубине души это сознавали, их посол в Петербурге свидетельствовал: Россия столь крепкое государство, что вполне может обойтись без иноземной помощи. Вена со своими домогательствами получила от ворот поворот, военные действия продолжались еще год, затем истощенные противники заключили мир на условиях status quo ante bellum (то есть положения, существовавшего до войны). Фридрих II начисто утратил военный задор, и больше не пускался в рискованные предприятия. СМ. Соловьев писал даже о его «войнобоязни».
Первые шаги екатерининской дипломатии отличались осторожностью и сдержанностью. Н. Панин принялся сооружать так называемую Северную систему (или Северный аккорд) – нечто аморфное, трудно поддающееся определению, не коалицию и не союз, а некое согласие жить в мире, – в противовес французскому Восточному барьеру, чреватому конфликтами и войной. Сам ее создатель мечтал с помощью своего детища «на севере тишину и покой ненарушимо сохранять»: Россия была удовлетворена сложившимся на Балтике положением. К системе удалось привлечь Англию, Пруссию, Данию, Швецию и Польшу. Сам этот перечень держав с перекрещивавшимися и сталкивавшимися интересами позволяет определить ее как временную и зыбкую комбинацию, пока кто либо из ее участников не попытается изменить к выгоде для себя баланс сил в Европе. В. О. Ключевский именовал творение Никиты Ивановича «дипломатической телегой, запряженной лебедем, раком и щукой», СМ. Соловьев считал ее создание неоправданным, британец А. Грей полагал продуктом панинского идеализма, а B. C. Лопатин характеризовал как пропрусскую[143 - Ключевский В. О. Указ. соч. С. 230–231]. Мы не разделяем столь суровых оценок. Система для XVIII столетия являлась чем-то из ряда вон выходящим. Сотрудничество ряда стран тогда осуществлялось для изменения статус-кво, а не ради его поддержки, и обычно имело целью в близком или далеком будущем развязывание войны. А тут своего рода лига мира. Ее творец усматривал в своем детище «вернейшее ручательство в общем спокойствии» и «залог обеспечения независимости этой части Европы»[144 - Сб. РИО. Вып. 13. СПб., 1873. С. 373].
Налет идеализма в замысле Никиты Ивановича присутствовал, но он явился провозвестником будущих международных и даже всемирных организаций, и за то Панина должно хвалить, а не попрекать, хотя замечание насчет «знатной части руководства» России в системе подрывало ее привлекательность для прочих участников и не сулило ей долгой жизни.
Ни ссор, ни столкновений между державами она не прекратила. В условиях, когда российское продвижение на юг с высокой степенью вероятности натолкнулось бы на стену австрийского сопротивления, самодержавие нуждалось в партнере попокладистее. Таковым представлялась Пруссия. Фридрих II, пребывавший в полнейшей изоляции, был готов броситься к Екатерине на шею. У двух держав существовали определенные точки соприкосновения интересов, и прежде всего в Польше, где их православные и лютеранские соотечественники (или, по терминологии того времени, диссиденты) были лишены политических прав, а их шляхта – участия во власти. Так что и у Петербурга, и у Берлина имелся вполне благовидный повод для вмешательства в польские дела – защита единоверцев от наступления католической реакции.
Польские дела были тесно связаны с балканскими сюжетами, Речь Посполитая являлась центральным звеном сооруженного французским королем Людовиком XV Восточного барьера (Швеция – Польша – Османская империя). Луи с упрямством параноика пытался изгнать Россию из Европы. Он инструктировал посла в Петербурге Л. О. Бретейля: «Вы знаете, и я повторяю совершенно четко, что целью моей политики в отношении России является устранение ее, насколько возможно, от дел в Европе». Он мечтал «ввергнуть этот народ в состояние хаоса и погрузить его во мрак»[145 - Грюнвальд К. Франко-русские союзы. М., 1968. С. 54; Valloton H. Op. cit. P. 191–192; Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 13. М., 1994. С. 256].
Король Польши Август III дышал на ладан и в 1773 году скончался. Водворение в Варшаве ставленника католических держав, Франции и Австрии, означало бы серьезное дипломатическое поражение России: в случае войны с Турцией пришлось бы сражаться и с ее польским союзником. Как это ни странно звучит, но путь на юг лежал через Варшаву, следовало озаботиться избранием здесь на трон лояльной кандидатуры, в союзном договоре с Пруссией (1764 год), в его секретнейшей статье, было названо и имя: Станислав Понятовский, бывший фаворит Екатерины. Аргументы в его пользу – природный поляк, родословная восходит к первой династии Пястов, сам не богат, но в родстве с могущественным и богатым кланом Чарторыйских, образован, поклонник идей Просвещения. Дополнительным и весомым аргументом послужило золото, щедро рассыпанное перед сеймовыми послами. Станислав, нарекший себя дополнительно именем Август был избран на престол с соблюдением всей полагающейся процедуры.
Екатерина торжествовала. Она призвала к себе истопника Федора Михайловича, родоначальника современной правительственной спецсвязи в России, и сунула ему в карман, между прочими бумагами, записку Панину: «Никита Иванович! Поздравляю Вас с королем, которого мы делали. Настоящий случай наивяще умножает к Вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все Вами взятые меры» Она поспешила погасить немалые долги, числившиеся за королем Станиславом Августом, и определила ему ежегодный пенсион в 3 тысячи червонных (9 тысяч рублей).
Плохо знала царица поляков. Вроде бы благое дело, отстаивание прав диссидентов, обернулось вооруженным вмешательством во внутрипольские дела, национальным протестом и тяжелейшими международными последствиями, завершившимися разделами Речи Посполитой. А все начиналось с конвенции, приложенной к оборонительному трактату 1764 года между Петербургом и Берлином. Стороны выступали в нем за возвращение диссидентам «привилегий, вольности и преимуществ, которыми они ранее владели как в делах религиозных, так и гражданских». Екатерина, как иноземка, обязана была доказать подданным, что проявляет на деле заботу о православных за рубежом. Поляки, как бы нарочно, делали все, чтобы накалить обстановку до предела. Епископ Георгий Конисский жаловался на невыносимое положение православной церкви – за последние годы разорено 200 храмов. Коронационный сейм 1764 года отказался рассматривать демарш двух дворов в пользу диссидентов. Позднее Н. В. Репнину удалось добиться некоторых уступок. С началом войны с Турцией (1768 год) они были взяты обратно, русских лишили права использовать Каменец-Подольск и проходивший через него тракт как операционную линию для снабжения своих войск. Старошляхетская группировка, т. н. Барская конфедерация, войдя в контакт с Высокой Портой, выразила согласие на присоединение к Османской империи, после ее победы над Россией, Подолии и Киевского воеводства вместе с Киевом, и выговорив в пользу Речи Посполитой Чернигов и Стародуб.
Открыто вмешаться в польские дела Луи XV не посмел. Франция, истощенная войной, вся в долгах, находилась в «изнуренном состоянии» и лишь для вида поспорила, да и провальный опыт 1730-х годов из памяти не выветрился. Но идея разжечь тлеющие угли российско-турецких противоречий вокруг Причерноморья в Париже не проходила. В апреле 1766 года послу в Константинополе Ш. Г. Вержену была направлена инструкция, кривотолков не допускавшая: самым надежным средством похоронить Северную систему, а может быть, и свалить с захваченного престола узурпаторшу Екатерину, говорилось в ней, явилось бы вовлечение России в войну. Лишь турки могут оказать Парижу эту услугу. «Нас не интересует конечный успех, но само объявление ее и ход позволят нам приступить к разрушению зловещих замыслов Екатерины»[146 - Стегний П. В. Первый раздел Польши и русская дипломатия // ННИ. 2001. № 1. С. 166, 165, 167, 170; Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000. С. 132, Valloton H. Op. cit. P. 192].
Галльские подстрекательства увенчались полным успехом, нужно было только поднести огниво к костру, чтобы вспыхнул огонь, так что особых уговоров не потребовалось. Турки с растущей подозрительностью следили за начавшимся развалом Речи Посполитой. Восточный барьер давал трещину, утрата союзника грозила выходом из строя всей системы сдерживания России. Резидент в Стамбуле A. M. Обресков уверял великого везира, что войска будут выведены из Польши «по окончании диссидентского дела», которому конца и краю не виделось. Посол в Варшаве Н. В. Репнин недоумевал – зачем давать пустые обещания? Обресков перепугался и пришел в состояние «трепетания» – как бы императрице не доложили о его самоуправстве[147 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 14. М., 1994. С. 30].
Н. И. Панин тревожился: «Не время еще сходиться нам с Портою до разрыва». Следует, «освободясь единожды польских хлопот», «взять на несколько времени покой и, пользуясь оным, распорядить меры наши на будущий случай». Чтобы не раздражать турок, прекратили строительство крепости Святого Дмитрия (Ростова-на-Дону), Обрескову отправили 70 тысяч рублей для придания его миролюбивым демаршам большей убедительности «лестным блеском золота»[148 - Чечулин И. Д Указ. соч. С. 265–266].
Екатерина надеялась: «С помощью Божьей на сей раз мимо пройдется». В инструкции «любезноверному» генерал-поручику Ивану Чернышеву, назначенному послом в Лондон, говорилось, явно для передачи британцам: «Приняв скипетр Российския державы, положили мы себе непоколебимым правилом, чтоб со всеми, а особливо с соседними областями, пребывать в дружбе и добром согласии, к чему простираются все наши старания». И уже в строках, предназначенных для него лично, выражалась надежда на то, что Высокая Порта, будучи «в таких затруднительных обстоятельствах», «весьма довольною может себя почитать, что останется от соседей своих в покое»[149 - Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. Сношения с Англией. 1768. Д. 201. Л. 4].
Не обошлось. Война надвигалась с фатальной неизбежностью. Позиции Обрескова пошатнулись. Великий везир был грозен: «Отвечай, изменник, в двух словах, обязываешься ли, что войска из Польши выведутся, или хочешь видеть войну?» Из дворцовых покоев дипломата препроводили в Семибашенный замок в заключение. 9 ноября 1768 года царица циркулярной нотой известила державы о «варварском поступке» Порты – «о нарушении с нами мира» и «арестовании резидента нашего Обрескова». Поэтому императрица, «противу истинной склонности своей», намерена употребить дарованные ей «от Бога силы в отмщение» и в «доставление себе и короне нашей полного и публичного удовлетворения»[150 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 256; АВПРИ. Ф. Сношения с Англией. 1768. Д. 201. Л. 17]. Война началась.
Ситуация для России сложилась тревожная. На севере затаилась, с границей всего в 30 верстах от Петербурга, дважды разгромленная и жаждавшая реванша Швеция. Австрия считала Балканы сферой своего влияния, а продвижение российских войск к устью Дуная – занятием господствующих позиций на подступах к ним. В Польше интересы Габсбургов и Романовых сталкивались, возведение Станислава Августа на престол вызвало в Вене крайнее раздражение. Так что со стороны Вены можно было ожидать всяких каверз.
Казалось, противовес можно было обрести в союзе с Англией, старым антагонистом Франции. Лондонский кабинет был ярым врагом галльских поползновений на гегемонию в Европе и на стезе колониальных предприятий. XVIII век едва перевалил на вторую половину, Лондон и Париж уже дважды схватились друг с другом, и до его окончания предстояли еще две войны. Состояние англо-российских отношений ободряло, торговля процветала, ежегодно 600–700 британских кораблей посещали порты северной державы.
Однако основой британской имперской мощи являлось господство на морских путях, связывавших воедино владения короны. По Утрехтскому миру 1713 года Англия приобрела ключи к Средиземному морю – скалу Гибралтар, запиравшую выход на просторы Атлантики. Турецкий султан считался чем-то вроде сторожа Черноморских проливов и исправно исполнял эту должность. Османская империя была уже слишком слаба, чтобы угрожать английским интересам. Иное дело – быстро наращивавшая мускулы Россия. Казалось бы, сидит она у азовского мелководья, какая уж тут угроза? Но британская дипломатия недаром считалась зоркой и дальнозоркой. Ей чудилась смена караула у Проливов, а это уже внушало глубокую тревогу. Англичане всей душой хотели бы заручиться российской поддержкой на случай новой схватки с Францией, но избегали обязательств в отношении турецких дел. В качестве крайней уступки предлагалась запутанная комбинация: лишь в том случае, если Екатерине не удастся заключить мир на условиях уступки турками Азова, области «кубанских татар» и свободы судоходства по Черному морю, Британия отправит в помощь России 14 линейных кораблей, и то под честное слово короля, не включая сей пункт в текст договора, дабы не мешать усилиям короны в достижении россйско-турецкого примирения. Петербург же должен был дать заверение, что любое нападение европейской державы на британские владения в Ост-Индии и Америке будет рассматривать как casus foederis (то есть случай, при котором вступают в силу обязательства по союзному договору)[151 - Сб. РИО. Вып. 19. СПб., 1876. С. 58–60].
Сент-Джеймский кабинет хотел и дружбу с самодержавием сохранить, и в то же время не допустить ощутимого ущемления турецких интересов. Добиться заключения союза на этих односторонне выгодных условиях Лондону очень хотелось, посол Ч. Кэткарт заранее получил полномочия на подписание договора. Екатерина заявила, что вступать еще в одну войну не желает.
Оставался Фридрих II. Противодействовать России обескровленная и опустошенная в ходе Семилетней войны Пруссия не могла, оставалось дружить с ней и, заключив Екатерину в объятия, постараться, насколько это возможно, умерить притязания союзника в отношении Турции и под сенью альянса приступить к разделу Польши. Первый зондаж король произвел, можно сказать, инкогнито. В 1764 году он послал в Петербург графа Динара, и тот, якобы от собственного имени, выступил с «инициативой». На его демарш не обратили внимания, вместо раздела Польши Н. И. Панин предложил совместными усилиями выгнать турок из Европы. Это ни в коей степени не отвечало прусским планам, но Фридрих по договору 1764 года все же обязался предоставлять России в случае ее войны с Турцией ежегодную субсидию в 400 тысяч рублей. Он был поэтому кровно заинтересован в скорейшем прекращении подобной войны, буде она вспыхнет. Брату Генриху король писал: «Россия – это страшное могущество, от которого через полвека будет трепетать вся Европа». Способствовать ее усилению Берлин не собирался, заманивать пруссаков в войну с турками выходило за пределы возможного: «Я заключил союз с Россией… не для того, чтобы под русскими знаменами вести пагубную войну, от которой мне ни тепло, ни холодно». «Боюсь, чтобы меня не стали доить как корову» в обмен «на изящный комплимент и соболью шубу». Но альянс был нужен ему позарез, «никто тогда не осмелится тронуть меня», писал король[152 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 373, 374, 377, 390; Кн. 15. М., 1995. С. 8; НИИ. 2001. № 1. С. 166].
Турки, по мнению тогдашних экспертов, могли выставить на поле боя 400 тысяч человек и 100-тысячную крымскую конницу, на море они господствовали. Русские– 180-тысячную армию. Современники прочили османам успех, в войне 1735–1739 годов они отразили натиск «московитов» и нанесли чувствительное поражение «цесарцам», так что условий для полета фантазии при составлении наметок по мирному договору у Совета при высочайшем дворе не существовало. Замахиваться на Балканы при открытом или скрытом противодействии почти всей Европы было опасно. Совет приступил к дискуссии: «…к какому концу вести войну и в случае наших авантажей какие выгоды за полезные положить?» Выработанные пожелания выглядели скромно: настоять на свободе плавания по Черному морю и для того добиться учреждения порта и крепости; не вполне определенно говорилось о границе с Польшей – установить ее так, чтобы «навсегда спокойствие не нарушалось»[153 - Архив Государственного совета (АГС). Т. 1. СПб., 1869. Стб. 7;].
Начало военных действий затягивалось из-за неготовности обеих сторон. Султан Мустафа III поспешно вызвал из ссылки Кырым Гирея, оказавшегося в немилости из-за излишней самостоятельности. Дорогу в сераль украсили шестами с отрубленными головами вечно бунтовавших черногорцев, как намек на участь, ожидающую непокорных.
Гирей не мешкал, и в январе 1769 года его конница вторглась на Украину. Целью набега, сообщал французский агент П. де Рюффен, было «разорить колонии, цветущее состояние которых возбуждало зависть соседей», и «заинтересовать добычей татарскую нацию, не получавшую от Порты никакой платы». Военный совет предписал войскам жечь по пути деревни, жатву, уводить стада, захватывать в плен жителей. Добычу предписывалось делить «по-братски», оставшиеся дома получали свою долю. И вновь потянулись обозы с рабами, всего – 16 тысяч человек[154 - АВПРИ. Ф. Сношения с Турцией. 1769. Д. 8. Л. 123; Дружинина Е. И. Указ. соч. С. 131]. Произошло, по словам СМ. Соловьева, «последнее татарское нашествие». Лишь фактор внезапности позволил свершить злое дело – степная конница испарилась с просторов Украины так же внезапно, как и появилась там. По приказу генерала П. А. Румянцева армия заняла «барьерные земли» и приступила к восстановлению крепостей Азов и Таганрог.
Начало войны продемонстрировало стратегические преимущества турецкой стороны: обладая Крымом и военно-морским флотом, она могла наносить удары в любом пункте побережья. Поэтому российское командование стремилось прежде всего овладеть выходом из Азовского моря, Керчью и Таманью, «дабы зунд Черного моря чрез то получить в свои руки, и тогда нашим судам способно будет крейсировать до самого цареградского канала и до устья Дуная»[155 - Там же. С. 102]. Поскольку турецкий удар ожидался и через Польшу, одна из армий направилась на север Бессарабии, к крепости Хотин. Взять ее приступом генерал-аншеф A. M. Голицын не решился. Осенью турки сами покинули город по причине нехватки продовольствия. Голицына сместили за бездеятельность, пост занял ПА. Румянцев. До конца 1769 года он оккупировал Дунайские княжества. Войска, от командующего до последнего солдата, убедились, что население считает их освободителями. Молдавский митрополит поспешил привести жителей Ясс к присяге на верность Екатерине, что и было осуществлено в соборе под ликующие клики и звон колоколов.
Родилась дерзкая мысль: нанести удар по Османской империи силами флота в Средиземном море (где корабль под российским флагом впервые появился в 1764 году). Первая эскадра под командованием адмирала Г. А. Спиридова покинула Кронштадт в июле 1769 года. Многое зависело от позиции англичан, без их содействия суда вообще не добрались бы до Гибралтара. Сент-Джеймский кабинет разрешил вербовку офицеров, предоставил в распоряжение эскадры свои порты, снабдил ее вспомогательными судами и, что не менее важно, предостерег французов и испанцев от попытки вмешательства. Статс-секретарь лорд Рошфор поведал российскому послу о мечтах кабинета: «Как я бы желал, чтобы мы были в войне с Францией! Два соединенных флота наделали бы прекрасных вещей!»[156 - Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 14. С. 230].
Французы не дерзнули бросить вызов двум державам и закрыли глаза на проплывавший вдоль их берегов флот. Они воображали, что занимают позицию третьего радующегося. Ведавший иностранными делами герцог Э. Ф. Шуазель инструктировал посла в Петербурге: «Е.в. желает, чтобы война России и Турции продолжалась до тех пор, пока петербургский двор, униженный или по крайне мере истощенный, не будет думать об угнетении соседей и о вмешательстве в общеевропейские дела»[157 - ННИ. 1996. № 1. С. 56; Черкасов П. П. Франция и Русско-турецкая война, 1768–1774 гг.]. Одним словом, марш в свой медвежий угол и сидите там смирно!
Пока в Париже предавались сладким грезам, эскадра Спиридова миновала Гибралтар и в Италии взяла на борт Алексея Орлова, назначенного командующим всеми войсками в Средиземноморском бассейне. В феврале 1770 года она достигла полуострова Морея в Греции. Десант с кораблей, поддержанный восставшими эллинами, взял местечко Мизидра (некогда знаменитую Спарту); в апреле пала крепость и порт Наварин, превращенный в операционную базу российского флота (20 линейных кораблей, 24 фрегата, 8 тысяч штыков десанта на борту). Правда, турки подтянули крупные силы, рассеяли отряды повстанцев, и город пришлось оставить. А.Г Орлов и Г. А. Спиридов взяли реванш в Чесменском морском сражении (между островом Хиос и материком). Турецкий флот из 16 линейных кораблей и 6 фрегатов был уничтожен, людские потери неприятеля достигали 10 тысяч. По словам Спиридова, вражескую эскадру «атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили и в пепел обратили, и оставили на том месте престрашное позорище»[158 - Тарле Е. В. Чесменский бой //Сочинения. Т. 10. М., 1959; Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 14. С. 364].
Не менее громкие победы были одержаны на сухопутном театре. Взошла полководческая звезда Петра Александровича Румянцева. Он разбил неприятеля в трех сражениях: У Рябой могилы (июнь), у Ларги (июль); 21 июля (1 августа), имея 17 тысяч солдат и офицеров, он разгромил главные турецкие силы (150 тысяч) на реке Кагул, притоке Дуная. Противостоять умелому маневру и штыковому удару обученной по-европейски пехоты турки не смогли, личная отвага янычар не помогла. Обозначился основной тактический прием в противоборстве с османской армией – выманивать ее из крепостных стен в чистое поле и там громить. Румянцев занял южную часть Бессарабии, Буджак, с крепостями Измаил, Килия, Аккерман и Бендеры, овладел дунайским портом Браиловом (Брэилой). Успехи представлялись значительными и позволяли надеяться на скорое заключение мира.
Еще 15 марта 1770 года Совет при высочайшем дворе занялся крымскими делами и «обще согласился», что подвластные хану татары «по их свойству и положению никогда не будут полезными подданными». В поисках наиболее рационального решения вопроса совет учитывал международную ситуацию: «…беспосредственным к себе подданством Россия возбудит противу себя общую и небезосновательную зависть о беспредельном намерении умножения своих областей; что от сего, однако ж, благоразумие научает». Трудно удержаться от похвалы этой мудрой мысли. Далее следовало ее логическое продолжение: «Велико и знатно быть может приращение силам и могуществу российским, если они отторгнутся от власти турецкой и оставлены будут навсегда собою в независимости». Видимо, вельможи рассуждали не без подсказки Екатерины, которая еще раньше задавалась вопросом: «не можно ли будет Крым и все татарские народы поколебать в верности Порте внушением им мыслей к составлению у себя независимого правительства?»[159 - АГС. Т. 1. Стб. 43–44; Соловьев С. М. История России… Кн. 14. С. 299].
Существовало, однако, большое «но» на пути осуществления этих планов – сами татары отлагаться от Османской империи не собирались. Каплан Гирей, будучи информирован Румянцевым о вынашиваемых в Зимнем дворце замыслах, ответил обескураживающе: «Мы Портою совершенно довольны и благоденствием наслаждаемся. В этом твоем намерении, кроме пустословия и безрассудства, ничего не заключается»[160 - Там же. С. 355]. И все же после Кагула три орды отложились от турецкого подданства.
Военные успехи, явное тяготение балканцев к России порождали тревогу у европейской дипломатии. Пришло время уточнения условий намечаемого мира, дабы возникшие опасения рассеять и толки о чрезмерном усилении могущества России пресечь. От посла в Вене Д. М. Голицына поступала информация о концентрации австрийских войск поблизости от фланга Дунайской армии, а Фридрих II проявлял повышенный и явно небескорыстный интерес к вынашиваемым в Петербурге замыслам относительно мира. Царица набросала краткую записку с изложением своих планов. Н. И. Панин доложил их совету 16 сентября 1770 года. Они предусматривали удержание Азова и Таганрога, предоставление независимости Крыму. Дунайские княжества предоставлялись России на 25 лет с тем, чтобы она возместила убытки войны. Но тут же следовало важное разъяснение, из которого вытекало, что указанный пункт – служебного характера и не исключал выдвижения иного требования: «Понеже Е.и.в. с самого своего восшествия на престол доказать изволила своею политическою системою, что она не ищет распространения своей империи приобретением себе земель», и она готова пожертвовать убытками, «если Молдавия и Валахия оставлены будут в независимости и Дунай будет поставлен турецкою границею»[161 - АГС. Т. 1. Стб. 68].
19 января 1771 года царица отправила письмо королю Фридриху с изложением российских притязаний: Кабарда и Азов переходят к России, обеспечивается свободное плавание по Черному морю. «Я могла б быть вознаграждена уступкою Молдавии и Валахии, но я откажусь от этого вознаграждения, если предпочтут сделать два княжества независимыми». Тем самым она продемонстрирует свое бескорыстие, а Вена должна быть довольна «соседством маленького молдовалашского государства, несравненно более слабого и независимого равно от трех империй» (Османской, Австрийской и Российской)[162 - Соловьев С. М. Указ. соч. С. 455]. «Я не подвигаю своих границ ни на пядь», – заключала государыня свое послание.
Зондаж в Берлине успехом не увенчался, правда, Фридрих прислал отказ не от своего имени, а спрятался за спину австрийцев: условия насчет Крыма и Дунайских княжеств «встретят непреодолимое сопротивление» со стороны Стамбула и Вены. Россия может рассчитывать на Кабарду, Азов и свободу плавания по Черному морю. Екатерина обиделась: после двух лет кровопролитной войны ей предлагают то, чем Россия уже располагает, за исключением пункта насчет судоходства[163 - Сб. РИО. Вып. 20. СПб., 1877. С. 291–292, 296–300].
В Вене с российским послом князем Д. М. Голицыным обходились с подчеркнутой холодностью: «Их императорские величества почтили меня благосклонным об индифферентных материях разговором». Похоже было, что двор откладывал беседы по существу неспроста: Голицын с тревожной регулярностью сообщал о концентрации войск в Трансильвании, поблизости от фланга Дунайской армии Румянцева. Всего к переброске намечалось 60 тысяч человек, 9 венгерских пехотных полков, 10 австрийских, 7 хорватских, 16 кавалерийских, включая 3 гусарских. Такими силами Румянцев не располагал, имея всего 45 тысяч штыков и сабель[164 - АВПРИ. Ф. Сношения с Австрией. 1770. Д. 507 Л. 50; 1771. Д. 513. Л. 21]. Кайзер Иосиф II зачастил на «гульбище» в Пратер – наблюдать за проходившими там учениями войск. Ему уже приготовили походную церковь.
11 мая 1771 года Екатерина начертала «Быть по сему» на документе, озаглавленном «Конфиденциальное изложение намерений», содержавшем условия мирного урегулирования. Она свидетельствовала в нем, что «не желает распространять свои владения путем завоеваний, постоянным правилом, на коем она основывает свою славу, является счастье и спокойствие подданных». Ее цель – добиться возмещения убытков, обеспечения границ империи, укрепления мира, снятия преград с черноморской торговли; она желает сделать соседство с Крымом «менее беспокойным», ханство должно не «под одиозным игом» находиться, а пользоваться «всеми правами и прерогативами свободного и независимого государства и народа»[165 - Там же. Д. 293. Л. 1–2, 5-19]. Из Вены поступил запрет на все, «мир на таком основании даст Российской империи громадное могущество, а империи Оттоманской – падение в перспективе, более или менее отдаленное, но неизбежное», сопровождаемый угрозой: венский двор «не может долго оставаться спокойным зрителем»[166 - Соловьев С. М. Сочинения. Т. 14. С. 459–461].
На деле позиция оного двора нимало не напоминала созерцательную. В Трансильвании сконцентрировался ударный кулак, в Стамбуле интернунций (посол) И. А. Тугут вступил в переговоры о союзе с Портой. Султан был в восторге, обещал не скупиться и выделить цесарцам 3–4 миллиона гульденов на военные нужды.
Дальше – больше. К глубокому огорчению императрицы-матери Марии Терезии, всю жизнь ненавидевшей прусского монарха, ее сын и соправитель Иосиф дважды встречался с Фридрихом. Особенно знаменательная беседа состоялась во время свидания в Нойштадте (ныне – Нове-Место в Чехии) в сентябре 1771 года. Иосиф не счел нужным скрывать перед пруссаком свои планы: надо воспрепятствовать «скорому и постыдному миру». Брату Леопольду он писал: «Если русские прорвутся и подойдут к Адрианополю, для нас наступит время двинуть войска на Дунай для отрезания им обратного перехода, во время которого армия их может быть уничтожена».
К удовлетворению собеседников, в Нойштадт прибыли турецкие уполномоченные, предложившие им взять на себя посреднические функции при заключении мира. Фридрих предложил присоединить к процедуре и носителя английской короны.
Игра была шита белыми нитками, посредничество предполагает участие, а стало быть, и воздействие на них, и понятно, кому на пользу. Все это уловила Екатерина, как и то, что старый Фриц прикрывается австрийской ширмой. В его переписке она усмотрела «мелкую зависть и угрозы», но «не прямо от него, все это положено на счет венского двора», и именовала «потсдамского философа» «адвокатом турок». Услуги были вежливо, но твердо отклонены, тем более, что и французская дипломатия собиралась вмешаться в процесс. Трудность для последней заключалась в том, что Екатерина тогда вообще не допускала посла Бурбонов пред свои очи. В Париже решили воспользоваться пребыванием в Петербурге Дени Дидро. Знаменитый философ по вечерам беседовал с императрицей. Однажды он, явно смущаясь, протянул ей конверт, заметив, что не хочет угодить в Бастилию в случае отказа выполнить данное ему поручение. Екатерина засвидетельствовала, что не собирается доставлять ему подобную неприятность, взяла письмо и швырнула его в камин, в котором пылал огонь[167 - Там же. С. 382–384; Туполев Б. М. Фридрих II. Россия и первый раздел Польши // ННИ. 1997. № 6]. На сем французские попытки вторгнуться в российско-турецкий конфликт прекратились.
Отделаться столь же легко от австрийцев не представлялось возможным. В декабре 1771 года до Коллегии иностранных дел дошли сведения о тревожном и уже совершившемся факте – об австро-турецком договоре от 7 июля, названном субсидным. Пронырливости осведомителей посла Д. М. Голицына не хватило на то, чтобы вовремя проведать о беседах интернунция с везирами, увенчавшихся подписанием документа, по которому Вена обязалась добиться от России «путем переговоров или силою оружия» (!!) заключения мира на условиях возвращения Турции занятых неприятелем «крепостей, провинций и территорий». Собираясь лишить Россию земель, занятых ценой большой крови, Габсбурги выговаривали себе в обмен на услугу лакомый кусок – Олтению (Западную или Малую Валахию) и субсидию в 20 тысяч кошельков (4 миллиона пиастров)[168 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 15. М., 1995. С. 63].
Подобного коварства Панин не ожидал даже от венцев и счел поступившие сведения «едва ли подлинными», хотя тут же заметил: «здравая политика велит готовиться на все случаи жизни»[169 - АВПРИ. Ф. Сношения с Австрией. 1772. Д. 532. Л. 3–6; 1771. Д. 520. Л. 34–36]. В марте следующего года англичане услужливо предоставили в его распоряжение копию субсидного договора. Информации не хотелось верить, и ее подлинность решили еще раз проверить, чтобы подтвердить или опровергнуть, и Д. М. Голицын, подкупив кого нужно, заимел наконец бумагу – «какую надежным каналом получился. Естли истину сказать, так за деньги»[170 - Сб. РИО. Вып. 19. С. 259; АВПРИ. Ф. Сношения с Австрией. 1772. Д. 532. Л. 1].
Ситуация сложилась мрачная, почти угрожающая. Панин шифром и по-русски излагал свою досаду, кляня Габсбургов и приписывая их интриги «высокомерному желанию дать России восчувствовать потерю австрийского союза»; но гласно, открытым текстом, по-французски и по почте, для прочтения в соответствующем австрийском ведомстве, он просил заверить канцлера В. А. Кауница, что он, Панин, всегда высоко ценил его «честность, верность и добрую волю»[171 - АВПРИ. Ф. Венская миссия. 1771. Д. 39. Л. 107; 1772. Д. 42. Л. 61].
Екатерина не менее своего министра была возмущена пакостями «цесарцев»: «Венский двор не всегда почитал за верх своего благополучия соседство турков и для того прежде не столь много имел попечения о сохранности и целости всей их области; но, как бы то ни было, я чаю, что наши кондиции не им на суд отданы. Их устраивает диктовать мир». Заканчивала царица свои рассуждения с обычной бодростью: «Но не диктаторам осуществлять власть над Россией». У габсбургских дипломатов не хватит ни силы, ни воли, ни нервов, ни гибкости, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Она пришла к выводу, что рычаг для достижения поворота в австрийской политике лежит в Дунайских княжествах и что с мыслью об их отторжении от Османской империи придется расстаться. Оставалось поманить Вену перспективой территориального расширения «до самого Белграда, как о сем разговоры уже были со стороны князя Кауница»[172 - Письма и записки Екатерины II к графу Н. И. Панину. М., 1863. С. 118–119]. Предстояло еще озаботиться сохранением за Молдавией и Валахией привилегий, которыми они традиционно пользовались. Панин выдвинул также идею амнистии по мирному договору, всем, кто поднял оружие против Порты.
Бремя войны тяжело ощущалось в России. Иностранные дипломаты, строя свои умозаключения исключительно на расчетах и подсчетах, не вторгаясь в область национальной психологии, пренебрегая чувством православной солидарности, приходили к выводу, что дела у страны плохи. Британец Ч. Кэткарт в доверительном письме делился своими наблюдениями: «Армии раздражены. Офицеры всех чинов выходят в отставку, люди измучены болезнями, усталостью и дурным управлением, более разрушительным, чем неприятельское оружие», корабли в состоянии, близком к аварийному. «Дарданеллы неприступны, блокада Константинополя бессмысленна». Деревня обескровлена рекрутскими наборами. «Казна еще совершенно не истощена, но весьма обеднела». Ощущается недостаток людей способных, сведущих и честных. «Зависть и ненависть к иностранцам». В общем, все плохо. Сменивший Кэткарта Р. Гэннинг выражал уверенность (июль 1772 года), что Россия еще одну кампанию не выдержит, а уж если «шведы осмелятся действовать наступательно, ничто не помешает им овладеть Кронштадтом и этой столицей» (Петербургом).
Набор шел за набором, и в 1772 году Румянцев отзывался о рекрутах: «слабая неучь»[173 - Сб. РИО. Вып. 19. С. 165–167, 286–287, 305; АВПРИ. Ф. Сношения с Турцией. 1772. Д. 1679. Л. 58].
«Старый Фриц» воспрянул духом: теперь уж Россия будет цепляться за союз с ним – и удвоил хлопоты по примирению Вены и Петербурга в ущерб интересам последнего. Он информировал Иосифа, что царица склоняется к оставлению Дунайских княжеств в составе Османской империи. В инструкциях Г. Г. Орлову, на которого возложили миссию миротворца, выражалась надежда на полное согласие венского двора «на положенные нами основания мирных переговоров». «Про себя», судя по всему, в Коллегии иностранных дел не были уверены, что подобной уступкой удастся отделаться, и Панин, в качестве запасного, предусматривал совсем уж варварский вариант, предложив на заседании совета, в случае удара австрийской армии по Валахии, отступать из княжеств, разоряя местность, дабы «цесарцы» не могли двигаться вперед[174 - Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 14. С. 473, 521; АГС. Т. 1. С. 197].
Молодой шведский король Густав III, двоюродный брат Екатерины по матери, совсем от рук отбился, учинил государственный переворот (август 1772 года) и восстановил в стране абсолютную власть монарха. Государыня тревожилась: «Есть ли французская партия власть возьмет, то сомнения нет о возобновлении комедии 1741 года» (войны Швеции с Россией).