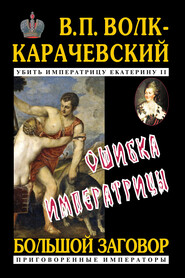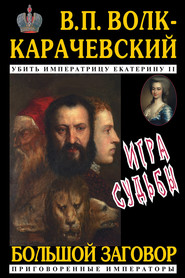По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пелевин и пустота. Роковое отречение
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но кто-то ведь убил Бакунина… И если его убили за то, что он сделал пятнадцать лет назад – помешал отнять у нее трон, то что тогда те, кто убил его, сделают с ней? Убить ее не намного труднее, чем этого жалкого старика…
И все-таки она не боялась, что ее убьют. Где-то в глубине души она верила в свою звезду, в то, что ее не только не убьют, но и в то, что она не умрет, по крайней мере сейчас, в ближайшее время, а если и умрет, то еще не скоро, и это «еще не скоро» каждый раз будет отодвигать уход из этого мира…
Нет, она не боялась своих доморощенных масонов. Они не способны убить. Сама убивавшая много раз, она понимала, как это нелегко, она знала, здесь, в России, в ее окружении никому не под силу убить, даже Потемкину. Мог только один Пугачев, но его уже нет… Да еще Алексей Орлов… А те, кому не дана такая высшая власть – убивать, не опасны для того, кому это позволено и кто может решиться на это… Когда-то она решилась, и этим определена ее судьба…
Те масоны, что в Европе… Те, возможно, и могут… Однажды светлейший рассказал ей, что масоны готовят убийство всех европейских монархов. Всех в один день, специальными кинжалами, и кинжалы эти – по числу монархов – уже изготовлены и хитроумно напитаны для надежности ядом.
Правда, спустя некоторое время, когда она заговорила с ним о масонах, светлейший отмахнулся и сказал, что масоны это пустые бредни, дурацкие выдумки, что все они шпионы Фридриха, старого Ирода и им же придуманы. Но Фридрих, несомненно, был масоном. И не просто так умерла тогда императрица Елизавета, что спасло и Фридриха, и Пруссию, и, кстати, ее, Екатерину…
Тогда, когда она придушила заговор Панина, она не стала поднимать шум. И никто не был убит, кроме тех подполковников, которым Соколович свернул шеи и они уже не смогли вести войска приветствовать нового императора… И кроме жены Павла, ей, видите ли, вздумалось повторить то, что когда-то свершила сама Екатерина. Но ей, Екатерине, это удалось, потому что императрица Елизавета уже лежала в могиле, а главное, потому что она не танцевала на балах до упаду и не доверяла никому, даже тем, кого сама посвятила в заговор.
Жене Павла казалось, что она нашла своего Орлова – Андрея Разумовского, и он возведет ее на трон… И оставив тогда в живых Панина, этого уже бесполезного ленивого пустомелю, она не пощадила жену Павла, остававшуюся опасной, и способ нашелся сам собой – она умерла родами и никто не обратил на это внимания. И сам Павел забыл о ней, как только ему в постель, не мешкая, подложили другой предмет, который отвлекает мужчину даже от мыслей о троне – а Павел, конечно же, мужчина, несмотря на всю его глупость, вон сколько внуков и внучек он уже смастерил со своей новой женой…
4. Жить и давать жить другим
Momento vivere.
Помни о жизни.
Да, надо жить и давать жить другим, но до той черты, которая проведена вокруг трона. Всех, кто эту черту намерен переступить, нужно уничтожать. Она это хорошо поняла. Это основной закон, который обязателен к исполнению для того, кто владеет троном… И если он не исполняет этот основной закон, то уничтожают его самого. Закон сей неизбежен… В исполнении его – суть власти монархической… И она исполняла его неукоснительно… И убивала, потому что не хотела, чтобы убили ее…
Она не хотела быть убитой, она хотела жить… Это светлейший надеется на нечто после смерти. А она знает: после смерти не будет ничего. Она не говорила об этом громко, вслух, и даже молчала, когда светлейший высказывал нечто противоположное… Но знала, что там, после смерти – ничего, кроме темноты… Там не будет ни греческого проекта, ни самого светлейшего, ни Дмитриева-Мамонова, так похожего на ее Сашеньку Ланского, для которого там, после смерти тоже ничего. Оттуда никто не возвращался… Он, ее Сашенька, который единственный из всех любил ее, он бы вернулся к ней, вернулся бы, если бы это было возможно.
Но он не вернулся, как она ни плакала, как ни страдала. Ничего, ничего нет там – только черная яма… И даже голос не донесется из этой бездонной ямы, из этой холодной, пустой темноты… Все только здесь… И греческий проект, и Турция, и Персия, и Индия… И все – только пока ты на троне, пока тебя не спихнули сначала с трона, а потом в бездонную яму…Но она не даст себя спихнуть… Она еще побудет лет двадцать здесь… А не там, куда кто-то раньше срока отправил старика Бакунина… Кто?
Ведь никто не знал, что это он предупредил ее. Никто… Знала только она сама, да Перекусихина… Если он не разболтал сам… Но на него это не похоже, Бакунин не болтун… Да, конечно, он хотел сесть на место Панина, стать главою Коллегии иностранных дел. Но она посадила Остермана. Бакунин скрытен, строптив, неглуп, такой глава Коллегии ей не нужен. Остерман глуп, но на своем месте, Коллегия у нее самой в руках…
А то, что она не повысила Бакунина – так отблагодари она его, все бы поняли за что, она продлила ему жизнь, подарила лет пятнадцать… Никто не знал… Правда, мог догадаться Павел – в тот день, когда она отчитала его, и он во всем сознался и она ткнула ему в нос пачку писем его дрожайшей супруги к Андрею Разумовскому, Павел видел Бакунина в ее кабинете, но ведь это ни о чем не говорит…
А может, она напрасно испугалась… Может, все это нелепости масонов в духе Калиостро? Глупое шутовство, доводящее до бездумных выходок? И Бакунин запутался в сетях, которые они сами для себя плетут… Ведь он, конечно же, масон, как и Панин, и все из его окружения… И не стоит обращать на это происшествие особого внимания. Пусть Шешковский, как и положено, расследует это дело, но без огласки…
И светлейшему не стоит сообщать об этом – она уже хотела послать ему депешу, вызвать его срочно в Петербург – нет, не нужно… Она сама разберется, сама все уладит и предусмотрит… Светлейшему нужно готовить армии и флот. Года через два придется продолжить войну с Турцией… Нужны деньги… Много денег… Первая турецкая война обошлась в сорок семь миллионов. Это годовой доход казны, это много, но это стоило того… У светлейшего достаточно хлопот и дел, он, действительно, так много успел сделать… Ему надо освободить руки, не отвлекать его. Он единственный, кто может сделать то, что не может даже она…
А он… Он через несколько лет будет в Константинополе… А все, что для этого нужно, она сделает сама… Нельзя давать волю страхам и поддаваться слабости… Она всегда умела находить силы в самой себе, она шла вперед несмотря ни на что… Маленькая и беззащитная девочка, одна в чужой стране, куда ее взяли только для того, чтобы вырвать из ее еще детского чрева то, что им нужно – наследника престола, а потом вышвырнуть ее, как ненужную детскую порванную пеленку. Они уложили ее в постель с этим ничтожеством, которое даже не умело сделать то, что от него требовалось, что умеет любой дворцовый лакей, в конце концов, любой деревенский мужик…
И она, тогда еще неопытная и неумелая, должна была стараться изо всех сил, чтобы помочь ему управиться со с его мужским хозяйством… А когда она родила и от нее получили то, что хотели, ее бросили одну, растерзанную, истекающую кровью, и она не могла допроситься даже подать ей воды… Но она все перенесла, она нашла силы, она все превозмогла…
О, теперь она не маленькая, беззащитная девочка… Она завоевала трон и вокруг этого трона проведена черта, которую она никому не позволит переступить. А тому, кто осмелится это сделать, придется рисковать жизнью, как это делала она, добиваясь трона… А потом, уже сидя на троне, она рисковала не меньше, а порой и больше… Да, она не маленькая, беспомощная девочка… Она – императрица. амодержица, потому что все держит сама. Но у нее есть и Потемкин, который поведет на юг армии, и никто не остановит его… Есть и ее Красный Кафтан – Дмитриев-Мамонов, совсем как Сашенька Ланской, это перст судьбы, что вместо безвозвратно ушедшего Ланского ей послан этот чудесный юноша. Тонкий и чуткий, может еще немного застенчивый, немножко нервный, но он возмужает под ее присмотром. И его она не позволит отнять у себя, как это случилось с Корсаковым…
Случай с Корсаковым очень сильно задел самолюбие Екатерины. Сильно, но не больно – потом, когда все прошло, быстро забылось… Красный Кафтан, так напоминавший ей Сашеньку Ланского, помог охладеть ко всей этой истории. И вспоминала она о ней совсем беззлобно и без тени обиды… Корсаков променял ее – сначала изменил ей с Брюсихой, она простила, обвинив во всем подругу, но потом, когда он завел роман с графиней Строгановой, прощать не стала…
Это Орлова, буйного Григория она терпела, тогда ей нужно было опасаться и побаиваться, и она побаивалась… И великой княгиней стерпела, даже когда он, подлец, однажды пустил в ее постель брата Алексея… Попробовать недоступной плоти, как же, е…ал царицу! Ну попробовал, ну и что? Да, она стерпела тогда… Пришлось стерпеть и не подать вида… Как будто она и не поняла, кто в ту ночь потрудился в ее постели… Ну и что теперь Орловы? Гриша сошел с ума и умер, его и жалко, да сам виноват… Алексей сидит в Москве как надутая мышь. Там же и Корсаков.
Но что ни говори, Корсаков иное дело… Она называла его царь Эпирский. В профиль он действительно был похож на Пирра, как его изображали на древних камеях… Как был красив, как ловок и смел! И даже дерзок, но только в постели… И удержу не знал – в постели… А так ведь глуп.
Да, он променял ее – на Брюсиху, на Строганову, ну и что он теперь имеет? А у нее – Дмитриев-Мамонов, он поистине второй Ланской… И оттого в душе никакой обиды ни на Корсакова, ни на Строганову. А на Брюсиху – нет, не обида, а неприязнь, как к неопрятной кухарке… Ведь ходила в подругах… И много было сокровенного, женского… А влезла, как свинья в чужой огород…
Екатерина вспомнила, как вошла в спальню и увидела Брюсиху, стоящую на четвереньках, с задранными на спину юбками и Корсакова сзади со спущенными панталонами… Ах, он был красив и хорош, и изящен – словно молодой греческий бог – даже в ту минуту… Но Брюсиха, подлая тварь, стоя на четвереньках, с лицом, млеющим от удовольствия и натуги, словно она справляла нужду… Было в ней что-то скотское, именно скотское, она даже не сообразила, смутиться или испугаться…
Екатерина тогда не сдержалась и назвала обоих «скотами». Скоты и есть… А потом, когда Брюсиха, с ухватками базарной товарки, пыталась сделать вид, что ничего особенного не произошло, чего, мол, не случится между подругами, она указала ей на дверь, не произнося ни единого слова. Как она перепугалась! Еще бы! Случись такое с Елизаветой или с Анной Иоанновной… Брюсиху она негласно выслала в Москву. Не в Сибирь, не под кнут, не с рваными ноздрями…
Правда, высечь ее все-таки высекли… Не на площади, не кнутом, а в тайной комнате Шешковского, розгами, исполосовали жирную задницу, опустив эту задницу в хитроумном кресле в подвал… Как она орала, сначала от неожиданности и удивления, а потом от боли… Теперь вряд ли она подставит кому-нибудь свои жаждущие телеса; интересно, как она объяснила все своему Брюсу, если тот, конечно, имел случай обнаружить порчу супружеского имущества…
Когда две женщины вхожи в интимные дела друг друга, обе должны соблюдать особый такт, а если одна из них – императрица, тем более… Начиналось все с шуточек Брюсихи, с разговоров о том, что «надо уметь попользоваться мужчиной», а потом незаметно она перешла границу дозволенного и закончилось все именно по-скотски…
И это все не случайно, она давно подозревала, что Брюсиха, сестра Румянцева, незаконного сына Петра I, потихоньку пытается поставить себя на равных… А Корсаков был хорош, замечательно хорош… Но потом явился Ланской и она благодарила Бога, что привелось расстаться с Корсаковым, как он ни красив…
Конечно, чего уж там, Брюсиха права, «надо уметь попользоваться мужчиной». Тем более, когда есть такая возможность… И только круглая дура не «попользуется», сидя на троне, когда вот они, на выбор… Но не каждая и сумеет… Та же самая Анна Иоанновна… Довольствовалась одним Бироном… Правда, говорят, он исправно и толково знал свое дело в постели… Немец, отличался исполнительностью… Глуп и недальновиден, зато исполнителен… А что бабе еще нужно…
Говорят, женщина любит ушами… Глупости… Женщина любит совсем другим местом… «Ласочкой», как это место называет Перекусихина, когда в духе. А когда сердится, то «чертовой берлогой», черт в этой бабьей берлоге не спит, как медведь в своей, а шевелится… А начнет «шебуршиться» да вытанцовывать, так «баба не знает куда ей и деться, на какой рожон сесть». Или еще называет «бабьим капканом», в который мужик «норовит влезть без оглядки». Вот чем баба любит… Чем же ей еще любить, как не этим самым местом, именно для этого и устроенным самим создателем? «Бабий мех дырявый, его никогда не наполнишь», – говорит Перекусихина. А вот Бирон наполнял… Говорят, по этой части работал как часы…
Конечно, ушами тоже любят… Приятно, когда ласкают нежным словом… С детских лет она ни от кого не слышала ни ласкового слова, ни похвалы. Только недовольный окрик матери. И чопорное молчание отца. Она любила отца в раннем детстве, ее тянуло к нему, как ко всякому мужчине. Но он был сух и холоден, ни приветливого взгляда, ни жеста. Знал, что она не его дочь… Но не нарушал своих обязанностей отца, сдерживал неприязнь…
Даже от прислуги и учителей никогда не слышала она искреннего доброго слова. Мадам Кордель иногда оживлялась, особенно когда пересказывала романы, ее вдохновляли повороты судеб героинь, мечтавших о страстной любви. Но и мадам Кордель не находила для нее ласки и нежности, больше занятая собою… Интересно, имелся ли у нее тогда сердечный друг, которому она внимала не только ушами…
У нее часто собирались на чаепитие ее записные поклонники – учитель чистописания Лорон, такой же беглый француз, как и она сама, но полное ничтожество, немец Вагнер, надутый педант, учитель немецкого языка, и учитель музыки, круглый дурак, Релинг. Вряд ли кто-то из них возвращался после чинного чаепития, чтобы хлебнуть из другой чашки Бабетты Кордель.
Если уж кто и пользовался ее чашей, то, скорее всего, учитель танцев… Тоже француз, как, дай Бог память, его звали… Нет, не упомнить… Или пастор Моклер, он тоже регулярно посещал по воскресеньям мадам Кордель, в его проповедях она точно не нуждалась. А от более действенных наставлений, скорее всего, не отказалась бы… И мужчина был видный… Вышла ли она потом замуж, как мечтала?
А впрочем… Боже мой, как же она забыла! Уж кому-кому, а ей хорошо известна эта любовь ушами!
Ее дядя, Георг Людвиг, родной брат матери, восторженный, чудаковатый, тонконогий, но довольно красивый сам собою, младший наследный принц, которому никогда не дождаться своего мизерного наследства, такого крошечного, что оно даже не обозначено ни на одной ландкарте, без памяти влюбился в нее, четырнадцатилетнюю Фике, никому не нужную бесприданницу.
Фике в детстве часто гостила у герцогини Елизаветы Софии Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, она когда-то крестила ее мать, тоже бесприданницу, и воспитала и выдала замуж из жалости к бедной родственнице. Мать пользовалась малейшим поводом, чтобы уехать из дома, а маленькую Фике оставить у герцогини, доброй старушки, сквозь пальцы смотревшей на подозрительные отлучки своей непоседливой крестницы и воспитанницы, не умевшей надежно скрывать своих желаний и увлечений.
У герцогини Фике попадала в другой мир, совсем не похожий на ее нищую жизнь в родительском доме. Там носили не фальшивые стеклянные, а настоящие бриллианты, в комнатах стояла дорогая старинная мебель, кушанья подавали на серебряных блюдах настоящие лакеи в ливреях, а чай пили из чашек тончайшего китайского фарфора. Герцогиню часто посещали юные Луиза Прусская и Юлиана Мария Брауншвейг-Беверийская, такие же принцессы, как и Фике, правда, немного постарше ее. Они быстро сошлись и стали подружками. Но прошло время и Луиза и Юлиана перестали появляться у «бабушки Елизаветы Софии». Одну из них выдали замуж за короля Швеции, другую – за короля Дании. Принцессы стали королевами. Фике наивно спросила, за какого короля и когда выдадут ее, она ведь, как всякая принцесса, тоже станет королевой.
– Королевских дворов не так уж много, чтобы всем принцессам стать королевами, – грустно сказала ей старая герцогиня.
По ее тону и по сожалеющему взгляду Фике поняла, что для нее нет ни королевского двора, ни короля, как их не нашлось когда-то для «бедной Иоганны», ее матери, не дождавшейся в свое время избранника-короля, хотя и мечтавшей об этом больше всего на свете и готовой, не раздумывая, прыгнуть в любой омут, с любого обрыва, в любую пропасть только за то, чтобы один день посидеть на королевском троне.
И со временем Фике узнала, что да, действительно, принцесс очень много (списком принцесс-сверстниц Фике, ее ближайших соседок и родственниц, можно заполнить несколько десятков страниц и я не делаю этого только из нежелания испытывать небезграничное терпение моих прилежных читателей), никому из них не суждено не то что стать королевами, а даже просто выйти замуж за принца, обладателя хотя бы наследного титула без каких-нибудь владений.
Поэтому, когда принц Георг Людвиг вдруг объяснился ей в своих чувствах, она едва не задохнулась от счастья.
О, какие признания он делал! Какие слова говорил, неистово размахивая руками! Наверное, он казался смешным. Он восторгался ее синими, как море, глазами. (Ни принц Георг, ни Фике ни разу в жизни не видели моря). Он клялся, что без ума от ее красоты. (Фике с детства привыкла, что все считают ее дурнушкой). Мать часто упрекала Фике в том, что она родилась на ее голову некрасивой и теперь ее некуда девать. И Фике верила, находя этому подтверждение в безразличных взглядах окружающих. Восторженные слова Георга заронили в ее сердце сомнение в правоте матери и всех тех, кто с детских лет смотрел на маленькую Фике как на дурнушку.
Дядя Георг умел улучить момент, чтобы наедине сказать ей о своих чувствах. Она стояла перед ним, не смея шевельнуться, как будто заколдованная потоком его слов, почти бессвязных, но таких запоминающихся и на удивление понятных.
Дядюшке Георгу уже перевалило за двадцать четыре года – ей исполнилось только четырнадцать. Он начинал, словно торопясь.
– Вы ребенок, вам не понять чувств, какие я испытываю при виде вас, хватит ли у вас решимости ответить мне взаимностью?
– Я готова на все, если мои отец и мать позволят, – лепетала она в ответ, сама не соображая, что говорит.
– Я умру от страсти! Обещайте же, обещайте, что выйдете за меня замуж! О Боги! – дядя Георг воздевал руки вверх. – Вы будете моей! Я сделаю для этого все, я преодолею любые преграды! Вы будете моей!
Дядя Георг неожиданно поворачивался на каблуках и уходил широкими шагами, охваченный каким-то возносившим его куда-то в недосягаемую высь чувством.
И все-таки она не боялась, что ее убьют. Где-то в глубине души она верила в свою звезду, в то, что ее не только не убьют, но и в то, что она не умрет, по крайней мере сейчас, в ближайшее время, а если и умрет, то еще не скоро, и это «еще не скоро» каждый раз будет отодвигать уход из этого мира…
Нет, она не боялась своих доморощенных масонов. Они не способны убить. Сама убивавшая много раз, она понимала, как это нелегко, она знала, здесь, в России, в ее окружении никому не под силу убить, даже Потемкину. Мог только один Пугачев, но его уже нет… Да еще Алексей Орлов… А те, кому не дана такая высшая власть – убивать, не опасны для того, кому это позволено и кто может решиться на это… Когда-то она решилась, и этим определена ее судьба…
Те масоны, что в Европе… Те, возможно, и могут… Однажды светлейший рассказал ей, что масоны готовят убийство всех европейских монархов. Всех в один день, специальными кинжалами, и кинжалы эти – по числу монархов – уже изготовлены и хитроумно напитаны для надежности ядом.
Правда, спустя некоторое время, когда она заговорила с ним о масонах, светлейший отмахнулся и сказал, что масоны это пустые бредни, дурацкие выдумки, что все они шпионы Фридриха, старого Ирода и им же придуманы. Но Фридрих, несомненно, был масоном. И не просто так умерла тогда императрица Елизавета, что спасло и Фридриха, и Пруссию, и, кстати, ее, Екатерину…
Тогда, когда она придушила заговор Панина, она не стала поднимать шум. И никто не был убит, кроме тех подполковников, которым Соколович свернул шеи и они уже не смогли вести войска приветствовать нового императора… И кроме жены Павла, ей, видите ли, вздумалось повторить то, что когда-то свершила сама Екатерина. Но ей, Екатерине, это удалось, потому что императрица Елизавета уже лежала в могиле, а главное, потому что она не танцевала на балах до упаду и не доверяла никому, даже тем, кого сама посвятила в заговор.
Жене Павла казалось, что она нашла своего Орлова – Андрея Разумовского, и он возведет ее на трон… И оставив тогда в живых Панина, этого уже бесполезного ленивого пустомелю, она не пощадила жену Павла, остававшуюся опасной, и способ нашелся сам собой – она умерла родами и никто не обратил на это внимания. И сам Павел забыл о ней, как только ему в постель, не мешкая, подложили другой предмет, который отвлекает мужчину даже от мыслей о троне – а Павел, конечно же, мужчина, несмотря на всю его глупость, вон сколько внуков и внучек он уже смастерил со своей новой женой…
4. Жить и давать жить другим
Momento vivere.
Помни о жизни.
Да, надо жить и давать жить другим, но до той черты, которая проведена вокруг трона. Всех, кто эту черту намерен переступить, нужно уничтожать. Она это хорошо поняла. Это основной закон, который обязателен к исполнению для того, кто владеет троном… И если он не исполняет этот основной закон, то уничтожают его самого. Закон сей неизбежен… В исполнении его – суть власти монархической… И она исполняла его неукоснительно… И убивала, потому что не хотела, чтобы убили ее…
Она не хотела быть убитой, она хотела жить… Это светлейший надеется на нечто после смерти. А она знает: после смерти не будет ничего. Она не говорила об этом громко, вслух, и даже молчала, когда светлейший высказывал нечто противоположное… Но знала, что там, после смерти – ничего, кроме темноты… Там не будет ни греческого проекта, ни самого светлейшего, ни Дмитриева-Мамонова, так похожего на ее Сашеньку Ланского, для которого там, после смерти тоже ничего. Оттуда никто не возвращался… Он, ее Сашенька, который единственный из всех любил ее, он бы вернулся к ней, вернулся бы, если бы это было возможно.
Но он не вернулся, как она ни плакала, как ни страдала. Ничего, ничего нет там – только черная яма… И даже голос не донесется из этой бездонной ямы, из этой холодной, пустой темноты… Все только здесь… И греческий проект, и Турция, и Персия, и Индия… И все – только пока ты на троне, пока тебя не спихнули сначала с трона, а потом в бездонную яму…Но она не даст себя спихнуть… Она еще побудет лет двадцать здесь… А не там, куда кто-то раньше срока отправил старика Бакунина… Кто?
Ведь никто не знал, что это он предупредил ее. Никто… Знала только она сама, да Перекусихина… Если он не разболтал сам… Но на него это не похоже, Бакунин не болтун… Да, конечно, он хотел сесть на место Панина, стать главою Коллегии иностранных дел. Но она посадила Остермана. Бакунин скрытен, строптив, неглуп, такой глава Коллегии ей не нужен. Остерман глуп, но на своем месте, Коллегия у нее самой в руках…
А то, что она не повысила Бакунина – так отблагодари она его, все бы поняли за что, она продлила ему жизнь, подарила лет пятнадцать… Никто не знал… Правда, мог догадаться Павел – в тот день, когда она отчитала его, и он во всем сознался и она ткнула ему в нос пачку писем его дрожайшей супруги к Андрею Разумовскому, Павел видел Бакунина в ее кабинете, но ведь это ни о чем не говорит…
А может, она напрасно испугалась… Может, все это нелепости масонов в духе Калиостро? Глупое шутовство, доводящее до бездумных выходок? И Бакунин запутался в сетях, которые они сами для себя плетут… Ведь он, конечно же, масон, как и Панин, и все из его окружения… И не стоит обращать на это происшествие особого внимания. Пусть Шешковский, как и положено, расследует это дело, но без огласки…
И светлейшему не стоит сообщать об этом – она уже хотела послать ему депешу, вызвать его срочно в Петербург – нет, не нужно… Она сама разберется, сама все уладит и предусмотрит… Светлейшему нужно готовить армии и флот. Года через два придется продолжить войну с Турцией… Нужны деньги… Много денег… Первая турецкая война обошлась в сорок семь миллионов. Это годовой доход казны, это много, но это стоило того… У светлейшего достаточно хлопот и дел, он, действительно, так много успел сделать… Ему надо освободить руки, не отвлекать его. Он единственный, кто может сделать то, что не может даже она…
А он… Он через несколько лет будет в Константинополе… А все, что для этого нужно, она сделает сама… Нельзя давать волю страхам и поддаваться слабости… Она всегда умела находить силы в самой себе, она шла вперед несмотря ни на что… Маленькая и беззащитная девочка, одна в чужой стране, куда ее взяли только для того, чтобы вырвать из ее еще детского чрева то, что им нужно – наследника престола, а потом вышвырнуть ее, как ненужную детскую порванную пеленку. Они уложили ее в постель с этим ничтожеством, которое даже не умело сделать то, что от него требовалось, что умеет любой дворцовый лакей, в конце концов, любой деревенский мужик…
И она, тогда еще неопытная и неумелая, должна была стараться изо всех сил, чтобы помочь ему управиться со с его мужским хозяйством… А когда она родила и от нее получили то, что хотели, ее бросили одну, растерзанную, истекающую кровью, и она не могла допроситься даже подать ей воды… Но она все перенесла, она нашла силы, она все превозмогла…
О, теперь она не маленькая, беззащитная девочка… Она завоевала трон и вокруг этого трона проведена черта, которую она никому не позволит переступить. А тому, кто осмелится это сделать, придется рисковать жизнью, как это делала она, добиваясь трона… А потом, уже сидя на троне, она рисковала не меньше, а порой и больше… Да, она не маленькая, беспомощная девочка… Она – императрица. амодержица, потому что все держит сама. Но у нее есть и Потемкин, который поведет на юг армии, и никто не остановит его… Есть и ее Красный Кафтан – Дмитриев-Мамонов, совсем как Сашенька Ланской, это перст судьбы, что вместо безвозвратно ушедшего Ланского ей послан этот чудесный юноша. Тонкий и чуткий, может еще немного застенчивый, немножко нервный, но он возмужает под ее присмотром. И его она не позволит отнять у себя, как это случилось с Корсаковым…
Случай с Корсаковым очень сильно задел самолюбие Екатерины. Сильно, но не больно – потом, когда все прошло, быстро забылось… Красный Кафтан, так напоминавший ей Сашеньку Ланского, помог охладеть ко всей этой истории. И вспоминала она о ней совсем беззлобно и без тени обиды… Корсаков променял ее – сначала изменил ей с Брюсихой, она простила, обвинив во всем подругу, но потом, когда он завел роман с графиней Строгановой, прощать не стала…
Это Орлова, буйного Григория она терпела, тогда ей нужно было опасаться и побаиваться, и она побаивалась… И великой княгиней стерпела, даже когда он, подлец, однажды пустил в ее постель брата Алексея… Попробовать недоступной плоти, как же, е…ал царицу! Ну попробовал, ну и что? Да, она стерпела тогда… Пришлось стерпеть и не подать вида… Как будто она и не поняла, кто в ту ночь потрудился в ее постели… Ну и что теперь Орловы? Гриша сошел с ума и умер, его и жалко, да сам виноват… Алексей сидит в Москве как надутая мышь. Там же и Корсаков.
Но что ни говори, Корсаков иное дело… Она называла его царь Эпирский. В профиль он действительно был похож на Пирра, как его изображали на древних камеях… Как был красив, как ловок и смел! И даже дерзок, но только в постели… И удержу не знал – в постели… А так ведь глуп.
Да, он променял ее – на Брюсиху, на Строганову, ну и что он теперь имеет? А у нее – Дмитриев-Мамонов, он поистине второй Ланской… И оттого в душе никакой обиды ни на Корсакова, ни на Строганову. А на Брюсиху – нет, не обида, а неприязнь, как к неопрятной кухарке… Ведь ходила в подругах… И много было сокровенного, женского… А влезла, как свинья в чужой огород…
Екатерина вспомнила, как вошла в спальню и увидела Брюсиху, стоящую на четвереньках, с задранными на спину юбками и Корсакова сзади со спущенными панталонами… Ах, он был красив и хорош, и изящен – словно молодой греческий бог – даже в ту минуту… Но Брюсиха, подлая тварь, стоя на четвереньках, с лицом, млеющим от удовольствия и натуги, словно она справляла нужду… Было в ней что-то скотское, именно скотское, она даже не сообразила, смутиться или испугаться…
Екатерина тогда не сдержалась и назвала обоих «скотами». Скоты и есть… А потом, когда Брюсиха, с ухватками базарной товарки, пыталась сделать вид, что ничего особенного не произошло, чего, мол, не случится между подругами, она указала ей на дверь, не произнося ни единого слова. Как она перепугалась! Еще бы! Случись такое с Елизаветой или с Анной Иоанновной… Брюсиху она негласно выслала в Москву. Не в Сибирь, не под кнут, не с рваными ноздрями…
Правда, высечь ее все-таки высекли… Не на площади, не кнутом, а в тайной комнате Шешковского, розгами, исполосовали жирную задницу, опустив эту задницу в хитроумном кресле в подвал… Как она орала, сначала от неожиданности и удивления, а потом от боли… Теперь вряд ли она подставит кому-нибудь свои жаждущие телеса; интересно, как она объяснила все своему Брюсу, если тот, конечно, имел случай обнаружить порчу супружеского имущества…
Когда две женщины вхожи в интимные дела друг друга, обе должны соблюдать особый такт, а если одна из них – императрица, тем более… Начиналось все с шуточек Брюсихи, с разговоров о том, что «надо уметь попользоваться мужчиной», а потом незаметно она перешла границу дозволенного и закончилось все именно по-скотски…
И это все не случайно, она давно подозревала, что Брюсиха, сестра Румянцева, незаконного сына Петра I, потихоньку пытается поставить себя на равных… А Корсаков был хорош, замечательно хорош… Но потом явился Ланской и она благодарила Бога, что привелось расстаться с Корсаковым, как он ни красив…
Конечно, чего уж там, Брюсиха права, «надо уметь попользоваться мужчиной». Тем более, когда есть такая возможность… И только круглая дура не «попользуется», сидя на троне, когда вот они, на выбор… Но не каждая и сумеет… Та же самая Анна Иоанновна… Довольствовалась одним Бироном… Правда, говорят, он исправно и толково знал свое дело в постели… Немец, отличался исполнительностью… Глуп и недальновиден, зато исполнителен… А что бабе еще нужно…
Говорят, женщина любит ушами… Глупости… Женщина любит совсем другим местом… «Ласочкой», как это место называет Перекусихина, когда в духе. А когда сердится, то «чертовой берлогой», черт в этой бабьей берлоге не спит, как медведь в своей, а шевелится… А начнет «шебуршиться» да вытанцовывать, так «баба не знает куда ей и деться, на какой рожон сесть». Или еще называет «бабьим капканом», в который мужик «норовит влезть без оглядки». Вот чем баба любит… Чем же ей еще любить, как не этим самым местом, именно для этого и устроенным самим создателем? «Бабий мех дырявый, его никогда не наполнишь», – говорит Перекусихина. А вот Бирон наполнял… Говорят, по этой части работал как часы…
Конечно, ушами тоже любят… Приятно, когда ласкают нежным словом… С детских лет она ни от кого не слышала ни ласкового слова, ни похвалы. Только недовольный окрик матери. И чопорное молчание отца. Она любила отца в раннем детстве, ее тянуло к нему, как ко всякому мужчине. Но он был сух и холоден, ни приветливого взгляда, ни жеста. Знал, что она не его дочь… Но не нарушал своих обязанностей отца, сдерживал неприязнь…
Даже от прислуги и учителей никогда не слышала она искреннего доброго слова. Мадам Кордель иногда оживлялась, особенно когда пересказывала романы, ее вдохновляли повороты судеб героинь, мечтавших о страстной любви. Но и мадам Кордель не находила для нее ласки и нежности, больше занятая собою… Интересно, имелся ли у нее тогда сердечный друг, которому она внимала не только ушами…
У нее часто собирались на чаепитие ее записные поклонники – учитель чистописания Лорон, такой же беглый француз, как и она сама, но полное ничтожество, немец Вагнер, надутый педант, учитель немецкого языка, и учитель музыки, круглый дурак, Релинг. Вряд ли кто-то из них возвращался после чинного чаепития, чтобы хлебнуть из другой чашки Бабетты Кордель.
Если уж кто и пользовался ее чашей, то, скорее всего, учитель танцев… Тоже француз, как, дай Бог память, его звали… Нет, не упомнить… Или пастор Моклер, он тоже регулярно посещал по воскресеньям мадам Кордель, в его проповедях она точно не нуждалась. А от более действенных наставлений, скорее всего, не отказалась бы… И мужчина был видный… Вышла ли она потом замуж, как мечтала?
А впрочем… Боже мой, как же она забыла! Уж кому-кому, а ей хорошо известна эта любовь ушами!
Ее дядя, Георг Людвиг, родной брат матери, восторженный, чудаковатый, тонконогий, но довольно красивый сам собою, младший наследный принц, которому никогда не дождаться своего мизерного наследства, такого крошечного, что оно даже не обозначено ни на одной ландкарте, без памяти влюбился в нее, четырнадцатилетнюю Фике, никому не нужную бесприданницу.
Фике в детстве часто гостила у герцогини Елизаветы Софии Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, она когда-то крестила ее мать, тоже бесприданницу, и воспитала и выдала замуж из жалости к бедной родственнице. Мать пользовалась малейшим поводом, чтобы уехать из дома, а маленькую Фике оставить у герцогини, доброй старушки, сквозь пальцы смотревшей на подозрительные отлучки своей непоседливой крестницы и воспитанницы, не умевшей надежно скрывать своих желаний и увлечений.
У герцогини Фике попадала в другой мир, совсем не похожий на ее нищую жизнь в родительском доме. Там носили не фальшивые стеклянные, а настоящие бриллианты, в комнатах стояла дорогая старинная мебель, кушанья подавали на серебряных блюдах настоящие лакеи в ливреях, а чай пили из чашек тончайшего китайского фарфора. Герцогиню часто посещали юные Луиза Прусская и Юлиана Мария Брауншвейг-Беверийская, такие же принцессы, как и Фике, правда, немного постарше ее. Они быстро сошлись и стали подружками. Но прошло время и Луиза и Юлиана перестали появляться у «бабушки Елизаветы Софии». Одну из них выдали замуж за короля Швеции, другую – за короля Дании. Принцессы стали королевами. Фике наивно спросила, за какого короля и когда выдадут ее, она ведь, как всякая принцесса, тоже станет королевой.
– Королевских дворов не так уж много, чтобы всем принцессам стать королевами, – грустно сказала ей старая герцогиня.
По ее тону и по сожалеющему взгляду Фике поняла, что для нее нет ни королевского двора, ни короля, как их не нашлось когда-то для «бедной Иоганны», ее матери, не дождавшейся в свое время избранника-короля, хотя и мечтавшей об этом больше всего на свете и готовой, не раздумывая, прыгнуть в любой омут, с любого обрыва, в любую пропасть только за то, чтобы один день посидеть на королевском троне.
И со временем Фике узнала, что да, действительно, принцесс очень много (списком принцесс-сверстниц Фике, ее ближайших соседок и родственниц, можно заполнить несколько десятков страниц и я не делаю этого только из нежелания испытывать небезграничное терпение моих прилежных читателей), никому из них не суждено не то что стать королевами, а даже просто выйти замуж за принца, обладателя хотя бы наследного титула без каких-нибудь владений.
Поэтому, когда принц Георг Людвиг вдруг объяснился ей в своих чувствах, она едва не задохнулась от счастья.
О, какие признания он делал! Какие слова говорил, неистово размахивая руками! Наверное, он казался смешным. Он восторгался ее синими, как море, глазами. (Ни принц Георг, ни Фике ни разу в жизни не видели моря). Он клялся, что без ума от ее красоты. (Фике с детства привыкла, что все считают ее дурнушкой). Мать часто упрекала Фике в том, что она родилась на ее голову некрасивой и теперь ее некуда девать. И Фике верила, находя этому подтверждение в безразличных взглядах окружающих. Восторженные слова Георга заронили в ее сердце сомнение в правоте матери и всех тех, кто с детских лет смотрел на маленькую Фике как на дурнушку.
Дядя Георг умел улучить момент, чтобы наедине сказать ей о своих чувствах. Она стояла перед ним, не смея шевельнуться, как будто заколдованная потоком его слов, почти бессвязных, но таких запоминающихся и на удивление понятных.
Дядюшке Георгу уже перевалило за двадцать четыре года – ей исполнилось только четырнадцать. Он начинал, словно торопясь.
– Вы ребенок, вам не понять чувств, какие я испытываю при виде вас, хватит ли у вас решимости ответить мне взаимностью?
– Я готова на все, если мои отец и мать позволят, – лепетала она в ответ, сама не соображая, что говорит.
– Я умру от страсти! Обещайте же, обещайте, что выйдете за меня замуж! О Боги! – дядя Георг воздевал руки вверх. – Вы будете моей! Я сделаю для этого все, я преодолею любые преграды! Вы будете моей!
Дядя Георг неожиданно поворачивался на каблуках и уходил широкими шагами, охваченный каким-то возносившим его куда-то в недосягаемую высь чувством.