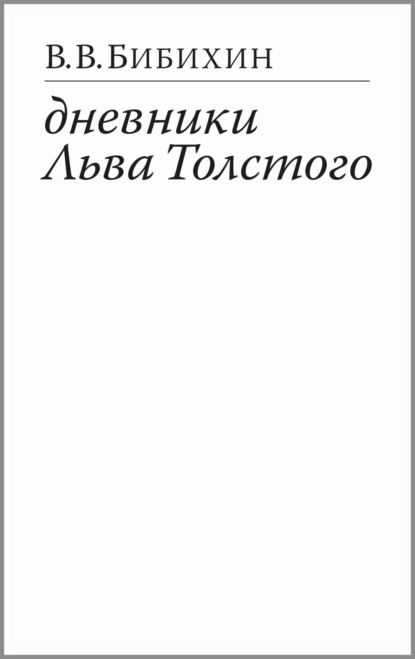По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дневники Льва Толстого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прекращение жизни смерть. Смерть требуется для того чтобы началась жизнь «своего положения», в которое входит вся вообще данность. Без смерти идет безумная потеря жизни.
Теперь 8, пойду наверх. Все эти дни грустно, и молитва становится механической. Одно утешает, укрепляет: жить так, чтоб увеличивать любовь в других и в себе – перед Богом. (Продолжение с нового абзаца той же записи)
Любовь у Толстого это снятие смотрительства, предпринимательского хозяйствования и возвращение других, и себя, «своему положению». Любовь как отпускание природы и санкционирование ее. Для Толстого жизнь не в понятиях, а в ближних, семейных, яснополянских крестьянах, городских знаменитых и незнаменитых знакомых, в животных. Принять и санкционировать такую жизнь, наверное, трудно, если на каждом шагу и почти в каждом случае мы видим протест и проклятие. Они вбивают жизнь в ее проклятые формы, выручить ее оттуда как вытащить из грязи, промыть, прочистить, подкормить, подбодрить. Толстой на своей позиции как на войне, на передовой позиции, спиной к стене, отхода нет: однажды решив любить, т. е. принять и не проклинать, и наоборот, не взяв на себя решение, что какие-то формы жизни прокляты сами по себе, а не только раздражением людей, он потеряет всё, если не примет чего-то, не даст чему-то санкцию. Принять надо всю природу; его брань, по Евангелию, не против плоти и крови, а против духовных принципов зла.
Нетеоретическое, хозяйственное отношение к природе ревнивое. Ревность здесь прямо противоположна любви до исключения любви там, где есть ревность. Я переедаю, заботясь о протеинах. Я стараюсь быть лучше другого, умнее, заботясь о своей умственной природе. Я хочу хорошо написать, ради славы, но и чтобы пошли деньги, я тогда смогу на них есть. Я ковыряю в носу, достаю свои выделения, заботясь о том, чтобы мои выделения, важные и значительные, вышли на свет и не застаивались внутри меня. Всем этим видам заботы противостоит только одна любовь как внимательное оставление вещей самим себе, т. е. сначала уверенность, что если вещи отталкивают нас, то нас отталкивает те они, какие сложились в нашем мнении, т. е. уже запертые нами в тюрьме, и извлечение их нами из тюрьмы, в которую мы их сначала заперли, первый шаг.
Почему Толстому должно казаться, что перемена людей от смотрительства к любви возможна и что она вот-вот охватит континенты, сначала может быть Америку в движении обновленного христианства. Так шагнуть казалось ему естественным. Но он же постоянно срывался на бездушие, раздражение, тщеславие.
У Рембрандта польский всадник сливается с пейзажем, не он один только. Рембрандта со всех сторон <окружило>, к нему подступило вещество, которого нагнетено может быть до крайности много, и всё равно для правды обстояния это мало, шанс выплеснуться из его глухоты, темноты понижается. «Аристотель рассматривает бюст Гомера»: философ слеп с открытыми глазами и зря вглядывается в темноту, второй зрячий в своей слепоте, но ведь всё-таки слепой. Непроглядное вещество наступает, обволакивает цветом и массой, его образования всегда и везде выходят из берегов, не поддаются контролю; наоборот, то, что воображалось как независимое отражающее мир я, растворяется в веществе.
Кажется, что вещества у Рембрандта – тела и вещей – нагнетено столько, что доведено до предела и наступит какое-то решение, но нет: никакого диалектического перевертывания не происходит, погружение в вещество продолжается и кончается именно невозможностью выплеснуться из глухоты, темноты.
У Рембрандта видно, что загородиться от вещества можно только иллюзорно, загородив (заперев как в тюрьме) самого себя, допустим мелкими хлопотами, делами, предприятиями, от страха его плотности, от страха нищеты своего я. Еда, в воображении будто бы восстанавливающая я во властном отношении к миру, якобы поедания его, в действительности еще больше топит в веществе. Рембрандт не изменил этой правде, не спрятался от вещества. Его поздние автопортреты, погруженные в вещество, смиренные, надо видеть, помня о раннем романтическом автопортрете, где он мечтает о полете: ему не удалось сдвинуть вещество, но его успех в том, что мало кому еще удавалось так увязнуть в его правде. В этих поздних автопортретах достоинство возвращающегося в землю, humilis, смирения.
У пишущего, говорящего это, у слышащих, тело мягко и лениво, оно вянет, но это состояние сытого покоя воспринимается как «созерцание», «теоретизирование», якобы в отвлечении ума от вещества, в «досуге», покое, достигнутом в борьбе с природой, когда тело, которое раньше всегда имело дело с веществом, с пространством, теперь благодаря какому-то высшему развитию вошло в режим чистой мысли, размышления, философствования. Я наелся, я в тепле, мои близкие тоже одеты и сыты, и есть деньги, чтобы пойти и купить питание в магазине. Это иллюзия досуга, мысли, теории. В действительности происходит обман, потому что вдали от моего ленивого тела машины и люди для сохранения этого моего состояния врезались в вещество, ножи в тела быков и коров на скотобойне, стальные трубы в тюменское болото, свинец и сталь в тела других людей, которые покушаются на устройство нашего общества; рвут вещество необратимо, в манере, за которую придется дорого платить, и мне конечно в том числе. В мнимом философском досуге я просто отодвинул в пространстве и времени от себя вещество, собственно немного и ненадолго. Мне скоро оно о себе напомнит. Лучше будет поэтому, если я сам поскорее обращу внимание на себя, на свое тело, и прежде всего на свою мысль, от которой я бегу, когда занимаюсь «теоретизированием» о «проблемах»: чем плотнее я ими занимаюсь, в академическом предприятии, тем больше затаптываю свою мысль, которая едва уже смеет поднять голову. Академические проблемы и еда – мои узаконенные цивилизацией наркотики, объем и массовое распространение которые гораздо больше, чем у неузаконенных цивилизацией наркотиков.
От еды я жду удовольствия, бодрости, полноты жизни: этими словами мне разрешили, даже предписали называть наркотический эффект еды, принимаемой без необходимости для поддержания моего сонного состояния без мысли, например в занятии теми же академическими проблемами. Люди, с которыми я на каждом шагу имею дело, в общем в том же состоянии наркоза, иллюзорного благополучия, что и я. С обеих сторон нашего общения под наносным благополучием скрытая, оставленная без мысли, которая подавлена и спит, тоска, вокруг шаткой структуры расписания. Эту скрытую тоску к определенным вещам отнести нельзя, конечно. Средства против нее опять всё те же, выспаться, поесть, загрузить в свое воображение отвлеченные проблемы, например политические, и завести их мельницу. Неопределенная тоска – современная форма присутствия вещества. Обманом оттесненное вещество наплывает этой тоской. Разбираться в ней и ее причинах из-за ее производности (вторичности) бесполезно, бесперспективно.
Любовь как прекращение протеста против мира и расправы над ним не может означать поэтому принятия форм жизни какие они есть, т. е. искаженных. Исправление без расправы – то, что Толстой называет любовью, – дело в его руках, прежде всего делаемое над самим собой, своим телом и умом, и над близкими.
Так? Или я не прав?
Делом Толстого остается видеть, без превращения в смотрителя, предпринимателя даже при таком предприятии, как любовь. И вот здесь очищенный нами и подготовленный к употреблению, отставленный на время инструмент оказывается нужен, потому что, я проверил, другого такого же нет: Толстой ушел из Ясной Поляны в 1910 году, сберегая теорию.
Та же теория, не меняющаяся, всегда одинаковая, по-настоящему захватывала его и за полвека до того, и раньше, ей он принадлежал раньше, чем всему другому. Вот ему двадцать девять лет.
Всё голова болит. Мысли о приближающейся старости мучают меня. Смотрюсь в зеркало по целым дням. Работаю лениво. И в физическом и умственном труде нужно зубы стиснуть. (18.2.1858)[10 - ПСС, т. 48. Дневники и записные книжки 1858–1880.]
Вглядывание в себя, в упор, до опасности и до страха безумия. Фраза «нужно зубы стиснуть» не означает совет себе предпринимателя о методе ведения хозяйства. У Толстого она означает только описание своего сейчасного состояния. Никакое «зубы стиснуть» его никогда не увлечет, пусть оно увлекает героев труда. Он захвачен вглядыванием в себя и в другие явления природы. Он безусловно в них участвует и опьянен ими, но принадлежит по-настоящему весь только теории. Вся теория сводится к оценке на хорошо и плохо.
Еще 3 дня в деревне, очень хорошо провел. (24.2.1858)
Был здоров, сытно питался, много гулял, веселился. В том-то и дело, что всё это было, но «хорошо» относится к другому. Это проясняет продолжение записи:
Старое начало казаков хорошо, продолжал немного.
Одобрение, санкция того, кто смотрит, абсолютного наблюдателя. Я говорю, упоение жизнью и своим ростом продолжается, но теоретик наблюдатель странный, он как беспристрастный отрешенный голос без возраста, древний.
Встал рано. Писал рассказ Еп[ишки] о переселении с Гребня. Нехорошо. Пришел Чичер[ин], Васин[ька], я потею и нездоровится. Гимнастика. Обед в клубе. Всё это мне скучно, я вырос немножко большой. Дома Маш[инька] получше. Я бирючусь немного. – Пошел к себе, написал Алексееву о песнях и Некрасову ответ на циркуляр. Пересматривал еще Музыканта {рассказ «Альберт»}. Надо всего переписать, или так отдать. Писал Ерошку. Чихачева. Умная кокетка. Нездоровится. (26.2.1858)
Это скачка, головокружительная. Держит в руках сразу две вещи, которые пишет, болен и занимается гимнастикой, обедает в клубе, одновременно замечает, как перерос свою среду, с Некрасовым участвует в литературной политике, походя оценивает молодую даму, на которой хочет жениться его брат. Что он пишет дневник, никто или мало кто знает. И он сам не знает, что ведет в его жизни не страсть, азарт, талант, а этот наблюдатель, который ничего не делает, только смотрит на парад. То, что не вмешивающийся наблюдатель может отменить парад, еще почти не видно, разве что по замечанию «всё это мне скучно, я вырос немножко большой». То, что наблюдатель смотрит спокойно и этим допускает, он санкционирует парад и дает ему развернуться.
Теория, присутствие глядящего при параде, природе, – не еще одно присутствие рядом с другими, не один голос среди других голосов и не голос, заимствованный у окружающих (вообще отбросим неинтересный случай, когда слышны чужие голоса, «внутренний голос» чей-то).
Утром читал {рассказ «Альберт»}, кажется Чичер[ину] и Коршу. Ничего. – Нашли, что ничего. – Ходил оба дни. Вечер, концерт. Глупости наговорил Львовой… (4.3.1858)
Первое «ничего» это свой приговор о рассказе, второе «ничего» мнение Чичерина и Корша, одна оценка абсолютного судьи, другая – независимо – передача чужой оценки без комментариев, никакой попытки сопоставления, хотя бы удовлетворения, что своя оценка совпадает с чужой. То, что они совпадают, даже не замечено. Запись «ходил оба дни», возможно, означает долгие переходные походы, или может быть, что два дня не было запора.
Спешка, сокращение слов до стенографии говорит, что тело спешит жить, наблюдателя отмечает вообще почти только точечно, записи далеко не каждый день, летом вообще их мало, в августе 1858-го совсем нет, но потом наблюдатель всплывает совсем тот же как ни в чём не бывало, делает то же, проверка себя, смотрение за собой, оценка на хорошо-плохо, подъем-падение. Внимание к главному. Уже в свои тридцать лет смерть, болезнь, еда, питье, настроение берутся за главные из вещей (не скажем литературный успех, не свои занятия и планы). Хорошо и плохо, верх и низ – постоянно главные оценки, т. е. санкция или нет.
10 Октября (1859). Вчерашнее спокойствие рухнулось. Вчера [зачеркнуто: рабо] писал письма, спокойно распоряжался {по хозяйству в деревне}; нынче пошел на тощак по хозяйству {а давал себе зарок раньше 2 дня в споры с управляющим не вступать} и послал в стан Егора {т. е. к становому для телесного наказания}. Оно справедливо и полезно; но не стоит того. —
11 Октября (1859). С каждым днем хуже и хуже моральное состояние, и уже почти вошел в летнюю колею {тогда дневник плохо пишется}. Буду пытаться восстать. Читал Adam Bede {роман Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс), 1819–1881}. Сильно трагично, хотя и неверно и полно одной мысли. Этого нет во мне. Лошади хуже и хуже. Рассердился на Лукьяна.
«Хуже и хуже» сказано сначала о своем моральном состоянии, потом точно так же о лошадях. Меры приняты? «Буду пытаться восстать», в отношении своей нравственности, и в отношении лошадей приняты: «рассердился на Лукьяна». Но как с этими сегодняшними попытками восстать завтра, мы уже читали; а как с распеканием крепостных, тоже хорошо известно. Т. е. не столько приняты меры, сколько и не думая принимать никаких мер наблюдатель смотрит, возможно зная только, что маятник, если его не остановить в одну сторону, качнется в другую сторону. Санкции падению нет, но и меры не принимаются.
[…] Хозяйство опять всей своей давящей, вонючей тяжестью взвалилось мне на шею. – Мучусь, ленюсь. (16.10.1859)
Т. е. например, что лошади хуже и хуже (об этом письмо А. А. Фету, т. 60, № 151) и надо высечь Лукьяна, но это не мера, или «хуже и хуже» «моральное состояние» (не его язык), и принято решение.
Упоминание вещей означает санкцию им.
19 Сент[ября] (1858) [Москва – Ясная Поляна]. Убирался. Был на гимнастике. Сильно посвежел {или не дописана буква: посвежело, о погоде, так и так может быть, пишется в одинаковом ряду}. Поехал. Наслаждался. Решил, что надо любить и трудиться, и всё. Уж сколько раз! Дорогой любил.
2 °Cент[ября] (1858) [Ясная Поляна]. Приехал. Устал. Не любил и не трудился.
Наблюдатель не паникует, не меняется, не принимает немедленных мер оттого, что принял решение любить и трудиться и на следующий день не любил и не трудился. Это и не значит, что он хладнокровно дает себе гулять, мудро отпускает поводья, чтобы потом всё-таки тем вернее заставить и любить и трудиться. Это значит только, что странность своего поведения повышает остроту наблюдения, интерес теории, присутствия при том, что «я меняюсь всегда». (4.10.1858)
4 Октября (1858)… {конец записи} Тетинька два дни плачет {он ее расстроил}. Я так переменился. Мой характер узнать нельзя. – Действительно же я только прошу Бога о терпении. —
Чтобы Бог имел терпение терпеть меня такого? Или чтобы я имел терпение выносить себя такого? И то и другое. Это просьба о невмешательстве, Бога и своего, в себя. Дать размах природе, которая и так уже удивляет размахом. Что бы ни случилось, лишь бы продолжался смотр. Присутствовать при параде, космосе, театре. Теперь, что больше увлекает, парад или наблюдение? Эти две вещи настолько разные и им дано такое несмешивание друг с другом, что они одно и то же. Наблюдение останется тем же невозмутимым, если парад вдруг захлопнется.
23 Декабря (1858). Приехал в Москву с детьми. Перезалог {в Московском опекунском совете} не удался. Деньги повсюду нужны. Поехал на охоту за медвед[ем], 21 убил одного; 22 меня погрыз. Денег промотал пропасть.
На лечение, или на поездки, или на покупки, неясно. Толстой охотился под Вышним Волочком с Н. Н. Толстым, А. А. Фетом, П. А. Шеншиным, С. С. Громекой и крестьянином Осташковым. Недобитая медведица погрызла ему лоб, на всю жизнь остались шрамы. Его выручил Осташков. Небрежность записи не кокетливая, пишет офицер, который недавно с фронта.
Лев Толстой живет откровениями. Они, поправьте меня, если я ошибаюсь, все собираются вокруг странности как сторонности, предельного разнесения – чего, какие полюса или, вернее, какие бесконечности разнесены до их полного совпадения? Он хочет иметь терпение при том, какой на самом деле широкий размах у всего.
14, 15, 16 (октября 1859). Утро. Видел нынче во сне: Преступление не есть известное действие, но известное отношение к условиям жизни. Убить мать может не быть и съесть кусок хлеба может быть величайшее преступление. – Как это было велико, когда я с этой мыслью проснулся ночью!
I-3
(19.9.2000)
Толстой слышит великое в своем откровении, об увиденном во сне, что ни одна вещь и ни один поступок сами по себе не верх и не низ, не подъем и не падение. Тогда давайте не бояться думать, и окажется: добро и зло не вещи и не поступки. А как же делание добра, добрые поступки? Где они расположены, если не в вещах и не в поступках? Раньше и ближе речей, вещей и поступков расположено в нас что?
Расположение. Настроение бывает хорошее и плохое. Хорошее мы рады показать. Плохое скрыть, под видом не обязательно хорошего, но допустим нейтрального. Есть ли сходство с желанием Толстого показать свои художественные вещи и не показывать дневник?
Два несходства. Какие?
Во-первых, в дневнике он иногда одобряет себя, бодрый, не всегда расстройство. Как когда он с удовольствием замечает, что вырос немножко большой. Тон дневника часто энергичный.
Второе несходство в том, что ведь неверно, что плохое настроение мы скрываем. Не всегда. Иногда, наоборот, мы его показываем. На самом деле показать скверность, со всем размахом (вы меня знаете с хорошей стороны, теперь узнаете с плохой, с размахом, или подчеркнуть свой упадок), – в природе человека. Скрываем мы на самом деле не плохое настроение само по себе, а слабость, вялость, растерянность.
Тогда почему же Толстой скрывает. Есть настроения, которые мы скрываем и о которых в то же время нельзя сказать, что они хорошие и плохие, хотя они не безразличны к хорошести и плохости, даже имеют самое прямое отношение к ним как обещание чего-то очень хорошего или, наоборот, как возможность и угроза обернуться чем-то очень плохим. Я не буду приводить из поэтов и психологов формулы этого расположения, причем именно потому, что оно интимное. В нём не только не делается поступков, не произносится слов, но даже оно будет развеяно насильственным заставлением себя говорить, делать поступки. Амехания, бывающее природное естественное состояние невозможности привести в действие механизмы тела и ума, – частный случай расположения, о котором я говорю, но это расположение шире и бывает оно чаще, чем амехания.
Назовем его пока условно брожением. Бродит странник, и бродит вино, пока не приняло свою химическую формулу. Опять я намеренно не буду вспоминать ясные описания такого брожения в литературе. Лучше попробуем определить его сами.
Теперь 8, пойду наверх. Все эти дни грустно, и молитва становится механической. Одно утешает, укрепляет: жить так, чтоб увеличивать любовь в других и в себе – перед Богом. (Продолжение с нового абзаца той же записи)
Любовь у Толстого это снятие смотрительства, предпринимательского хозяйствования и возвращение других, и себя, «своему положению». Любовь как отпускание природы и санкционирование ее. Для Толстого жизнь не в понятиях, а в ближних, семейных, яснополянских крестьянах, городских знаменитых и незнаменитых знакомых, в животных. Принять и санкционировать такую жизнь, наверное, трудно, если на каждом шагу и почти в каждом случае мы видим протест и проклятие. Они вбивают жизнь в ее проклятые формы, выручить ее оттуда как вытащить из грязи, промыть, прочистить, подкормить, подбодрить. Толстой на своей позиции как на войне, на передовой позиции, спиной к стене, отхода нет: однажды решив любить, т. е. принять и не проклинать, и наоборот, не взяв на себя решение, что какие-то формы жизни прокляты сами по себе, а не только раздражением людей, он потеряет всё, если не примет чего-то, не даст чему-то санкцию. Принять надо всю природу; его брань, по Евангелию, не против плоти и крови, а против духовных принципов зла.
Нетеоретическое, хозяйственное отношение к природе ревнивое. Ревность здесь прямо противоположна любви до исключения любви там, где есть ревность. Я переедаю, заботясь о протеинах. Я стараюсь быть лучше другого, умнее, заботясь о своей умственной природе. Я хочу хорошо написать, ради славы, но и чтобы пошли деньги, я тогда смогу на них есть. Я ковыряю в носу, достаю свои выделения, заботясь о том, чтобы мои выделения, важные и значительные, вышли на свет и не застаивались внутри меня. Всем этим видам заботы противостоит только одна любовь как внимательное оставление вещей самим себе, т. е. сначала уверенность, что если вещи отталкивают нас, то нас отталкивает те они, какие сложились в нашем мнении, т. е. уже запертые нами в тюрьме, и извлечение их нами из тюрьмы, в которую мы их сначала заперли, первый шаг.
Почему Толстому должно казаться, что перемена людей от смотрительства к любви возможна и что она вот-вот охватит континенты, сначала может быть Америку в движении обновленного христианства. Так шагнуть казалось ему естественным. Но он же постоянно срывался на бездушие, раздражение, тщеславие.
У Рембрандта польский всадник сливается с пейзажем, не он один только. Рембрандта со всех сторон <окружило>, к нему подступило вещество, которого нагнетено может быть до крайности много, и всё равно для правды обстояния это мало, шанс выплеснуться из его глухоты, темноты понижается. «Аристотель рассматривает бюст Гомера»: философ слеп с открытыми глазами и зря вглядывается в темноту, второй зрячий в своей слепоте, но ведь всё-таки слепой. Непроглядное вещество наступает, обволакивает цветом и массой, его образования всегда и везде выходят из берегов, не поддаются контролю; наоборот, то, что воображалось как независимое отражающее мир я, растворяется в веществе.
Кажется, что вещества у Рембрандта – тела и вещей – нагнетено столько, что доведено до предела и наступит какое-то решение, но нет: никакого диалектического перевертывания не происходит, погружение в вещество продолжается и кончается именно невозможностью выплеснуться из глухоты, темноты.
У Рембрандта видно, что загородиться от вещества можно только иллюзорно, загородив (заперев как в тюрьме) самого себя, допустим мелкими хлопотами, делами, предприятиями, от страха его плотности, от страха нищеты своего я. Еда, в воображении будто бы восстанавливающая я во властном отношении к миру, якобы поедания его, в действительности еще больше топит в веществе. Рембрандт не изменил этой правде, не спрятался от вещества. Его поздние автопортреты, погруженные в вещество, смиренные, надо видеть, помня о раннем романтическом автопортрете, где он мечтает о полете: ему не удалось сдвинуть вещество, но его успех в том, что мало кому еще удавалось так увязнуть в его правде. В этих поздних автопортретах достоинство возвращающегося в землю, humilis, смирения.
У пишущего, говорящего это, у слышащих, тело мягко и лениво, оно вянет, но это состояние сытого покоя воспринимается как «созерцание», «теоретизирование», якобы в отвлечении ума от вещества, в «досуге», покое, достигнутом в борьбе с природой, когда тело, которое раньше всегда имело дело с веществом, с пространством, теперь благодаря какому-то высшему развитию вошло в режим чистой мысли, размышления, философствования. Я наелся, я в тепле, мои близкие тоже одеты и сыты, и есть деньги, чтобы пойти и купить питание в магазине. Это иллюзия досуга, мысли, теории. В действительности происходит обман, потому что вдали от моего ленивого тела машины и люди для сохранения этого моего состояния врезались в вещество, ножи в тела быков и коров на скотобойне, стальные трубы в тюменское болото, свинец и сталь в тела других людей, которые покушаются на устройство нашего общества; рвут вещество необратимо, в манере, за которую придется дорого платить, и мне конечно в том числе. В мнимом философском досуге я просто отодвинул в пространстве и времени от себя вещество, собственно немного и ненадолго. Мне скоро оно о себе напомнит. Лучше будет поэтому, если я сам поскорее обращу внимание на себя, на свое тело, и прежде всего на свою мысль, от которой я бегу, когда занимаюсь «теоретизированием» о «проблемах»: чем плотнее я ими занимаюсь, в академическом предприятии, тем больше затаптываю свою мысль, которая едва уже смеет поднять голову. Академические проблемы и еда – мои узаконенные цивилизацией наркотики, объем и массовое распространение которые гораздо больше, чем у неузаконенных цивилизацией наркотиков.
От еды я жду удовольствия, бодрости, полноты жизни: этими словами мне разрешили, даже предписали называть наркотический эффект еды, принимаемой без необходимости для поддержания моего сонного состояния без мысли, например в занятии теми же академическими проблемами. Люди, с которыми я на каждом шагу имею дело, в общем в том же состоянии наркоза, иллюзорного благополучия, что и я. С обеих сторон нашего общения под наносным благополучием скрытая, оставленная без мысли, которая подавлена и спит, тоска, вокруг шаткой структуры расписания. Эту скрытую тоску к определенным вещам отнести нельзя, конечно. Средства против нее опять всё те же, выспаться, поесть, загрузить в свое воображение отвлеченные проблемы, например политические, и завести их мельницу. Неопределенная тоска – современная форма присутствия вещества. Обманом оттесненное вещество наплывает этой тоской. Разбираться в ней и ее причинах из-за ее производности (вторичности) бесполезно, бесперспективно.
Любовь как прекращение протеста против мира и расправы над ним не может означать поэтому принятия форм жизни какие они есть, т. е. искаженных. Исправление без расправы – то, что Толстой называет любовью, – дело в его руках, прежде всего делаемое над самим собой, своим телом и умом, и над близкими.
Так? Или я не прав?
Делом Толстого остается видеть, без превращения в смотрителя, предпринимателя даже при таком предприятии, как любовь. И вот здесь очищенный нами и подготовленный к употреблению, отставленный на время инструмент оказывается нужен, потому что, я проверил, другого такого же нет: Толстой ушел из Ясной Поляны в 1910 году, сберегая теорию.
Та же теория, не меняющаяся, всегда одинаковая, по-настоящему захватывала его и за полвека до того, и раньше, ей он принадлежал раньше, чем всему другому. Вот ему двадцать девять лет.
Всё голова болит. Мысли о приближающейся старости мучают меня. Смотрюсь в зеркало по целым дням. Работаю лениво. И в физическом и умственном труде нужно зубы стиснуть. (18.2.1858)[10 - ПСС, т. 48. Дневники и записные книжки 1858–1880.]
Вглядывание в себя, в упор, до опасности и до страха безумия. Фраза «нужно зубы стиснуть» не означает совет себе предпринимателя о методе ведения хозяйства. У Толстого она означает только описание своего сейчасного состояния. Никакое «зубы стиснуть» его никогда не увлечет, пусть оно увлекает героев труда. Он захвачен вглядыванием в себя и в другие явления природы. Он безусловно в них участвует и опьянен ими, но принадлежит по-настоящему весь только теории. Вся теория сводится к оценке на хорошо и плохо.
Еще 3 дня в деревне, очень хорошо провел. (24.2.1858)
Был здоров, сытно питался, много гулял, веселился. В том-то и дело, что всё это было, но «хорошо» относится к другому. Это проясняет продолжение записи:
Старое начало казаков хорошо, продолжал немного.
Одобрение, санкция того, кто смотрит, абсолютного наблюдателя. Я говорю, упоение жизнью и своим ростом продолжается, но теоретик наблюдатель странный, он как беспристрастный отрешенный голос без возраста, древний.
Встал рано. Писал рассказ Еп[ишки] о переселении с Гребня. Нехорошо. Пришел Чичер[ин], Васин[ька], я потею и нездоровится. Гимнастика. Обед в клубе. Всё это мне скучно, я вырос немножко большой. Дома Маш[инька] получше. Я бирючусь немного. – Пошел к себе, написал Алексееву о песнях и Некрасову ответ на циркуляр. Пересматривал еще Музыканта {рассказ «Альберт»}. Надо всего переписать, или так отдать. Писал Ерошку. Чихачева. Умная кокетка. Нездоровится. (26.2.1858)
Это скачка, головокружительная. Держит в руках сразу две вещи, которые пишет, болен и занимается гимнастикой, обедает в клубе, одновременно замечает, как перерос свою среду, с Некрасовым участвует в литературной политике, походя оценивает молодую даму, на которой хочет жениться его брат. Что он пишет дневник, никто или мало кто знает. И он сам не знает, что ведет в его жизни не страсть, азарт, талант, а этот наблюдатель, который ничего не делает, только смотрит на парад. То, что не вмешивающийся наблюдатель может отменить парад, еще почти не видно, разве что по замечанию «всё это мне скучно, я вырос немножко большой». То, что наблюдатель смотрит спокойно и этим допускает, он санкционирует парад и дает ему развернуться.
Теория, присутствие глядящего при параде, природе, – не еще одно присутствие рядом с другими, не один голос среди других голосов и не голос, заимствованный у окружающих (вообще отбросим неинтересный случай, когда слышны чужие голоса, «внутренний голос» чей-то).
Утром читал {рассказ «Альберт»}, кажется Чичер[ину] и Коршу. Ничего. – Нашли, что ничего. – Ходил оба дни. Вечер, концерт. Глупости наговорил Львовой… (4.3.1858)
Первое «ничего» это свой приговор о рассказе, второе «ничего» мнение Чичерина и Корша, одна оценка абсолютного судьи, другая – независимо – передача чужой оценки без комментариев, никакой попытки сопоставления, хотя бы удовлетворения, что своя оценка совпадает с чужой. То, что они совпадают, даже не замечено. Запись «ходил оба дни», возможно, означает долгие переходные походы, или может быть, что два дня не было запора.
Спешка, сокращение слов до стенографии говорит, что тело спешит жить, наблюдателя отмечает вообще почти только точечно, записи далеко не каждый день, летом вообще их мало, в августе 1858-го совсем нет, но потом наблюдатель всплывает совсем тот же как ни в чём не бывало, делает то же, проверка себя, смотрение за собой, оценка на хорошо-плохо, подъем-падение. Внимание к главному. Уже в свои тридцать лет смерть, болезнь, еда, питье, настроение берутся за главные из вещей (не скажем литературный успех, не свои занятия и планы). Хорошо и плохо, верх и низ – постоянно главные оценки, т. е. санкция или нет.
10 Октября (1859). Вчерашнее спокойствие рухнулось. Вчера [зачеркнуто: рабо] писал письма, спокойно распоряжался {по хозяйству в деревне}; нынче пошел на тощак по хозяйству {а давал себе зарок раньше 2 дня в споры с управляющим не вступать} и послал в стан Егора {т. е. к становому для телесного наказания}. Оно справедливо и полезно; но не стоит того. —
11 Октября (1859). С каждым днем хуже и хуже моральное состояние, и уже почти вошел в летнюю колею {тогда дневник плохо пишется}. Буду пытаться восстать. Читал Adam Bede {роман Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс), 1819–1881}. Сильно трагично, хотя и неверно и полно одной мысли. Этого нет во мне. Лошади хуже и хуже. Рассердился на Лукьяна.
«Хуже и хуже» сказано сначала о своем моральном состоянии, потом точно так же о лошадях. Меры приняты? «Буду пытаться восстать», в отношении своей нравственности, и в отношении лошадей приняты: «рассердился на Лукьяна». Но как с этими сегодняшними попытками восстать завтра, мы уже читали; а как с распеканием крепостных, тоже хорошо известно. Т. е. не столько приняты меры, сколько и не думая принимать никаких мер наблюдатель смотрит, возможно зная только, что маятник, если его не остановить в одну сторону, качнется в другую сторону. Санкции падению нет, но и меры не принимаются.
[…] Хозяйство опять всей своей давящей, вонючей тяжестью взвалилось мне на шею. – Мучусь, ленюсь. (16.10.1859)
Т. е. например, что лошади хуже и хуже (об этом письмо А. А. Фету, т. 60, № 151) и надо высечь Лукьяна, но это не мера, или «хуже и хуже» «моральное состояние» (не его язык), и принято решение.
Упоминание вещей означает санкцию им.
19 Сент[ября] (1858) [Москва – Ясная Поляна]. Убирался. Был на гимнастике. Сильно посвежел {или не дописана буква: посвежело, о погоде, так и так может быть, пишется в одинаковом ряду}. Поехал. Наслаждался. Решил, что надо любить и трудиться, и всё. Уж сколько раз! Дорогой любил.
2 °Cент[ября] (1858) [Ясная Поляна]. Приехал. Устал. Не любил и не трудился.
Наблюдатель не паникует, не меняется, не принимает немедленных мер оттого, что принял решение любить и трудиться и на следующий день не любил и не трудился. Это и не значит, что он хладнокровно дает себе гулять, мудро отпускает поводья, чтобы потом всё-таки тем вернее заставить и любить и трудиться. Это значит только, что странность своего поведения повышает остроту наблюдения, интерес теории, присутствия при том, что «я меняюсь всегда». (4.10.1858)
4 Октября (1858)… {конец записи} Тетинька два дни плачет {он ее расстроил}. Я так переменился. Мой характер узнать нельзя. – Действительно же я только прошу Бога о терпении. —
Чтобы Бог имел терпение терпеть меня такого? Или чтобы я имел терпение выносить себя такого? И то и другое. Это просьба о невмешательстве, Бога и своего, в себя. Дать размах природе, которая и так уже удивляет размахом. Что бы ни случилось, лишь бы продолжался смотр. Присутствовать при параде, космосе, театре. Теперь, что больше увлекает, парад или наблюдение? Эти две вещи настолько разные и им дано такое несмешивание друг с другом, что они одно и то же. Наблюдение останется тем же невозмутимым, если парад вдруг захлопнется.
23 Декабря (1858). Приехал в Москву с детьми. Перезалог {в Московском опекунском совете} не удался. Деньги повсюду нужны. Поехал на охоту за медвед[ем], 21 убил одного; 22 меня погрыз. Денег промотал пропасть.
На лечение, или на поездки, или на покупки, неясно. Толстой охотился под Вышним Волочком с Н. Н. Толстым, А. А. Фетом, П. А. Шеншиным, С. С. Громекой и крестьянином Осташковым. Недобитая медведица погрызла ему лоб, на всю жизнь остались шрамы. Его выручил Осташков. Небрежность записи не кокетливая, пишет офицер, который недавно с фронта.
Лев Толстой живет откровениями. Они, поправьте меня, если я ошибаюсь, все собираются вокруг странности как сторонности, предельного разнесения – чего, какие полюса или, вернее, какие бесконечности разнесены до их полного совпадения? Он хочет иметь терпение при том, какой на самом деле широкий размах у всего.
14, 15, 16 (октября 1859). Утро. Видел нынче во сне: Преступление не есть известное действие, но известное отношение к условиям жизни. Убить мать может не быть и съесть кусок хлеба может быть величайшее преступление. – Как это было велико, когда я с этой мыслью проснулся ночью!
I-3
(19.9.2000)
Толстой слышит великое в своем откровении, об увиденном во сне, что ни одна вещь и ни один поступок сами по себе не верх и не низ, не подъем и не падение. Тогда давайте не бояться думать, и окажется: добро и зло не вещи и не поступки. А как же делание добра, добрые поступки? Где они расположены, если не в вещах и не в поступках? Раньше и ближе речей, вещей и поступков расположено в нас что?
Расположение. Настроение бывает хорошее и плохое. Хорошее мы рады показать. Плохое скрыть, под видом не обязательно хорошего, но допустим нейтрального. Есть ли сходство с желанием Толстого показать свои художественные вещи и не показывать дневник?
Два несходства. Какие?
Во-первых, в дневнике он иногда одобряет себя, бодрый, не всегда расстройство. Как когда он с удовольствием замечает, что вырос немножко большой. Тон дневника часто энергичный.
Второе несходство в том, что ведь неверно, что плохое настроение мы скрываем. Не всегда. Иногда, наоборот, мы его показываем. На самом деле показать скверность, со всем размахом (вы меня знаете с хорошей стороны, теперь узнаете с плохой, с размахом, или подчеркнуть свой упадок), – в природе человека. Скрываем мы на самом деле не плохое настроение само по себе, а слабость, вялость, растерянность.
Тогда почему же Толстой скрывает. Есть настроения, которые мы скрываем и о которых в то же время нельзя сказать, что они хорошие и плохие, хотя они не безразличны к хорошести и плохости, даже имеют самое прямое отношение к ним как обещание чего-то очень хорошего или, наоборот, как возможность и угроза обернуться чем-то очень плохим. Я не буду приводить из поэтов и психологов формулы этого расположения, причем именно потому, что оно интимное. В нём не только не делается поступков, не произносится слов, но даже оно будет развеяно насильственным заставлением себя говорить, делать поступки. Амехания, бывающее природное естественное состояние невозможности привести в действие механизмы тела и ума, – частный случай расположения, о котором я говорю, но это расположение шире и бывает оно чаще, чем амехания.
Назовем его пока условно брожением. Бродит странник, и бродит вино, пока не приняло свою химическую формулу. Опять я намеренно не буду вспоминать ясные описания такого брожения в литературе. Лучше попробуем определить его сами.