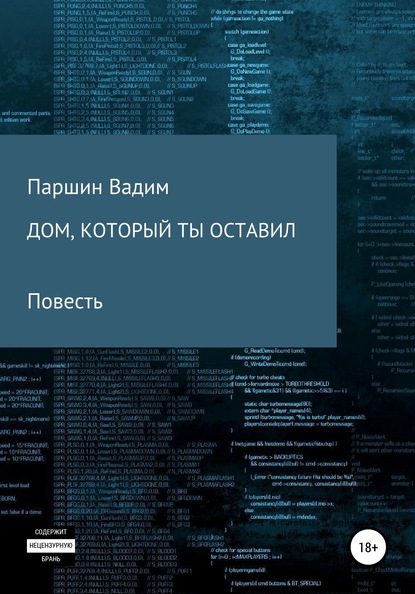По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дом, который ты оставил
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но когда обнимала она вас, всех, так долгожданно и мучительно, как обнимает лишь мать, провожая своего последнего ребенка, так, как не обнимала тебя, не проводив тебя в заветный твой край, так обнимая всех вас, она тут же, всех вас, теряла – как теряла всегда и постоянно, всех.
И счастье ее, ее единственное и неподдельное счастье тогда оставалось только лишь в вас двоих, неизменно остающихся такими, как есть – тогда, когда она вас, словно в отчаянной молитве, обнимала.
И ты показывал ей бесконечные и необъятные белоснежные картины. И ты показывал ей серые и желтые дома с провалившимися крышами, обездоленные, покинутые всеми, с кроватями и шкафами, вынесенными и разбросанными на снегу, дома с грустно мерцающими окнами и силуэтами в черных зевах входных дверей, из которых холодный ветер выносил половые доски.
И ты показывал ей сани, медленно катящиеся по извилистым улочкам и застревающие во вдавленных в лед колеях, сани, слезами из которых просыпался бесцветный совершенно песок.
И ты молил показать ей ночь. И много, много всего того, в чем не было смысла – потому что ей это было не ведомо; всего того, чего не существовало – потому что этого ей уже не увидеть; всего того, что таяло, мерцая и растворяясь – потому что и в тебе самом не могло долго жить – но жило и сияло…
Ты ничего не мог ей показать. А потому все вокруг засыпало, медленно погружаясь во мрак вас троих.
И ты тоже закрывал глаза – но лишь на одно единственное мгновение, только лишь для того, чтобы тут же быть капризно разбуженным ею, не знающей, зачем, но желающей увидеть тебя еще раз. Увидеть, каждый раз, как последний, для того, чтобы, одними лишь глазами, проводить тебя,– ты помнишь это?– вдаль, и, отвернувшись, уже больше не оборачиваться.
Так, никогда не оборачиваясь, она оставалась стоять все на том же месте, пока ты окончательно не тонул в безликой темноте медленно надвигающегося черного занавеса. Так, именно так стоял ты у поручней, держась за них своими теплыми, всегда такими теплыми, нежными, худыми руками с короткими пальцами, держась словно бы за последнюю надежду, последнее право – повернуться, вернуться, попросить прощения.
Сколько уже раз ты так делал, уже так давно – с нами. И все мы всегда тебя прощали. Прощали за то, что ты был тем, кем был, тем, кем всегда, всю свою жизнь, оставался, тек, кем для нас всех навсегда останешься, куда бы не ушел и где бы не оказался.
И именно поэтому, тогда, тогда, когда все просили, но никого из тех, кто просил, не было рядом, тогда ты так и не обернулся. Просто сделал шаг, еще шаг, и еще – множество шагов, так и не попытавшись заглянуть туда, куда всю свою жизнь только и смотрел.
Не помнишь. Это уже тебе не вспомнить. Этих бесконечно стремящихся все вниз и вниз, в темноту, ступеней того лазурного цвета, любить который ты не переставал всю свою жизнь.
Ты долго, очень долго спускался, опустив в изнеможении голову, зарывшись в собственных волосах, с каждым шагом все нежнее гладя свои тайные перила, своих молчаливых спутников.
А в небе, вдаль, в сторону восходящего, жаркого солнца, превращающего снег на своем пути в ужасные потоки белоснежной гуаши, этой пока еще столь чистой воды, летели черные кляксы твоих птиц. Твоих птиц бесконечные серые стаи летели навстречу зажженной и по неряшливости забытой гореть в течение всего дня, навстречу докрасна лампочке, летели твои свободные птицы.Навстречу алого пламени вдалеке, там, за бархатной стеной почти застывших перьев твоей узнаваемой по самому тонкому запаху, навстречу этой красной памяти, уходил ты, оставляя за собой тысячи мерцающих звезд в опрокинутом небе.
Ты шел не оборачиваясь – оборачиваться было страшно и некогда.
Нельзя.
Не разрешено.
Устав, ты ложился на гладкие, мокрые доски, скрестив на груди свои теплые руки, блаженно закрывая глаза и выпуская в непроницаемую темноту закрытой дверцы плотное облачко зеленоватого пара.
Так холодно было тебе спускаться по скользким ступеням вниз – все ниже и ниже.
Так жалко было оказаться совсем, совершенно одному, тебе – в косом, округлом углу серого, до невозможности чистого вагона.
Так легко было тебе, шаг за шагом, все больше и больше увязая в глинистой каше снега и кирпично-черной глине, уходить вдаль, превращаясь лишь в тусклый силуэт, подобный звездам бесчисленных птиц в небе.
Так тихо пело твое дыхание среди этих мокрых, гниющих досок.
Так ты уехал в одном единственном, только тебе одному предназначенном, вагоне – в непроглядную мглу тоннеля, не сумев, так и не сумев прокричать слова прощания сквозь шум пустоты.
Так ты, еще всего один раз, почти незаметно, вздохнув в блаженстве покоя, заснул, наконец, в объятиях жестких досок.
Так ты остановился, будто вдруг, неожиданно даже для самого себя что-то вспомнив, и может быть даже решив пересилить себя и обернуться, но не успев совершенно ничего сделать, утонул во властном, хотя и еле заметном испуге, укрывающем все вокруг потоке снега, таящего в шаге от земли, и слез, застывающих в мгновении от самого неба…
И так и не проснулся…
Ты не простился не с ним, не со мной, не с ней, не с ними. Ты не простился, и вот теперь тихо и нежно поет домик, тот самый карточный домик, недостроенный тобой когда-то, а там, где ты все таки заложил основы стен, этажей, пола и потолка, использовав для этого то, что сумел найти среди развалин своего уютного, заваленного множеством никому, но лишь тебе одному нужного хлама, там все мгновениями, секундами, минутами, часами и далее, в твое отсутствие, покрывается пылью и сыростью И вот уже одна из карточных комнат, тусклая, грязная и ничтожная, медленно, но неумолимо, оседает, держась еще, из последних сил ожидая еще твоего появления, твоего возникновения.
Твоего возвращения.
А тебя все нет. Выцветает в комнате этой смятая кровать, на правом краю которой крепким, беспробудным сном спит плоская фотография, а у подножия ее, этой не застеленной кровати, опустившись на колени в вечном и бесцельном молении, застыла пластилиновая, уродливая фигура, поскольку ты так и не успел научиться лепить, создавать фигурки, похожие на людей, сделал ее такой, уродливой, несуразной, никчемной.
А тебя все нет.
Тебя нет, и на столе, рядом с вылезшей из осыпавшейся стены оголенным кабелем, искрящимся из-за того, что ты, несуразный и милый мой, ничего не помнящий и забывающий все то, чего не помнишь, ребенок, не лишил свое ждущее тебя жилище пульсации, жизни, лежит пластилиновый солдатик, прожженный во многих местах россыпью безучастных и беспощадных звезд-искр.
А тебя все нет.
Тебя нет, а вековая пыльная лампочка все дрожит и маяком в постоянном полумраке, живя в сопротивлении самой жизни, сигналит пустоте, из которой ты, по ее наивному нежному мнению, должен однажды возникнуть, появиться. Вернуться.
А тебя все нет.
Тебя нет, и, двадцатипятилетняя, я молча, измученно, апатично сижу на нашей с тобой кровати, устав жить, ждать, скучать, надеяться, верить, говорить, молчать, двигаться, спать, бодрствовать, пить, есть.
Быть.
Я молча сижу, высушенная до дна, и курю сигарету за сигаретой, стряхивая пепел туда, где ему, на самом деле, самое место – на кровать, на пол, на свои руки, ноги, живот. Сижу и зарастаю пеплом.
Тебя все нет, и потому я, повзрослевшая лишь для того, чтобы, бросив тебя одного, бросив так, как давно уже бросили и оставили тебя все; я, взрослая, бросившая тебя лишь для того, чтобы бросить все, что у меня было, все, что не давало мне абсолютно ничего; для того лишь, чтобы все бросить, и возвратившись, вернуть себе одного единственного тебя.
Тебя все нет, а я, старея, все же нахожу в себе то, чего тебе никогда не было нужды искать – для того, чтобы вновь, теперь уже навсегда, стать такой, каким был ты, мой вечный ребенок.
Вот только тебя, тебя, цели моего возвращения, здесь больше нет. Тебя нет, но ты – есть. Есть, точно также, как любой ребенок, любой сирота, стоит лишь ему произвести магический обряд, разложив вокруг себя магические инструменты,– карандаши, фломастеры, краски и бумагу,– обретает то, чего он якобы лишен.
Вот оно. Вот оно, все, его и ему одному принадлежащее.
Так есть и ты – потому что тогда, когда я решаюсь хоть что-то, для чего-то делать, я пишу эту сказку. Сказку для тебя. Я играю в начатую тобой игру, в твои игрушки. И граю в игру – для тебя. В игрушки – для тебя.
Вот только тебя нет. Ты есть в моей сказке, но тебя нет. Ты есть в нашей с тобой игре, но тебя нет.
Тебя нет.
А я этому – не верю. Не верю – потому что есть она, надпись: “Я здесь”. Не верю – потому что ты вернешься. Потому что я жду тебя. Жду здесь, сейчас и всегда жду.
Здесь – в доме, который ты оставил.
А там… Там, на пути к дому, который ты еще не нашел, на дороге к дому, который тобой еще не обретен…
Тонкая, коричневая линия, подернутая желтоватыми бликами и серой дымкой, бесконечно, утопически вечно, однако совсем не бессмысленно, тянется шлейфом призрачного видения. Сахарной пудрой стелется матовая, однообразная и однотонная, едва ли не искорками ослепительно черных миллионов следящих глазков, за тобой следящих, стелется гладь не то поверхности, не то самого твоего сознания – себя ли самого, своего ли желания – найти, обрести, и тогда уже, когда найдешь, отыщешь, обретешь, украдешь и будешь дальше, сколько бы не пришлось, странствуя ли, или же остановившись и, значит, замерев теперь уже отныне и навеки, остановиться, держать и быть. Быть для себя лишь одного, ибо то, чего я, ты, он, она, они, в нас, каждом, в вас каждом, не видят, не чувствуют, не понимают и не ощущают, того, самого сокровенного, прекрасного и горького, в нас нет. Ни для кого пока еще, или же уже, нет, не существует, не найдено и не обретено.
Где-то за твоей спиной идет дождь, холодный, осенний и стального шепота дождь, убаюкивая своим шептанием двадцативосьмилетнюю, не абсолютную для тебя сейчас, относительную и образную для тебя сейчас, меня, своими стройными сказками о том и о тех, чего и кого, относительных и относительного, для меня, сейчас, нет; где-то за твоей спиной этот дождь идет, и для тебя, сейчас, его, относительного, нет, не существует. И меня, в нем, слушающей эти сказки несуществующего дождя, для тебя, сейчас, такой относительной, нет, не существует. Как не существует и ничего, никого и никогда, того, чему место за любой из наших спин.
А мы ведь так любим, глупые, или же слишком разумные для всего, чем наполнены мы, и всего, чего в нас пока и уже нет, именно то, далекое и недоступное, чего для нас всех не существует, а значит, все мы, так любим идти, вперед и без оглядки идти, не оборачиваясь до тех пор, пока все, оставшееся позади нас, не превратится в дымку несуществующего ровно наполовину.
А мы ведь так любим эти две противоположные нам дымки – того, чего уже наполовину для нас нет, и того, что, впереди, а не сзади, за спиной, для нас же, наполовину есть. Ведь это мы, мы, любящие лишь то, чего для нас, у нас и в нас, нет. Нет и, по возможности, никогда не будет.