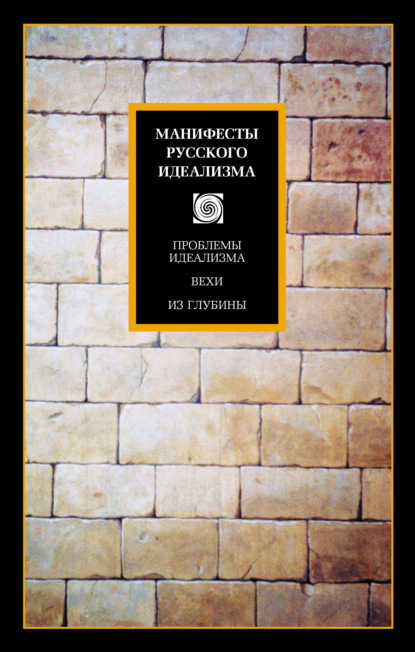По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Манифесты русского идеализма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
для одной из центральных идей Ницшевской этики.].
Итак, стоит ли по своей моральной ценности «любовь к вещам и призракам» выше или ниже «любви к людям», но самый факт ее существования как третьего, равно удаленного от эгоизма и альтруизма, вида нравственного чувства не может – вопреки ходячему взгляду – быть оспариваем. Но раз проблема разрешена теоретически, раз не остается более сомнения в наличности особого морального чувства «любви к вещам и призракам», не совпадающего ни с эгоизмом, ни с альтруизмом, то не представляет более трудностей и разрешение морально-практической проблемы, именно вопроса о моральной ценности этого чувства. Доказывать вообще моральную ценность чего-либо невозможно; здесь есть только один путь – апелляция к нравственному чувству. И это нравственное чувство властно и внушительно говорит, что любовь к истине, справедливости, красоте, чести и прочим «призракам» обладает бесспорною и весьма высокою моральною ценностью. Выше ли она, чем ценность любви к людям, как это утверждает или, вернее, внушает Ницше, – это опять-таки не может быть доказано логически. Согласно изложенному нами взгляду, спор между двумя независимыми моральными принципами за верховенство разрешается не аргументами, а стихийною моральною силой каждого из них в душе человека. Бывают люди, бывают настроения, общества, эпохи, для которых высшим нравственным идеалом является счастие, благополучие ближних во всей его конкретной материальности; бывают иные люди, иные общества и эпохи, для которых символом веры становятся отвлеченные моральные блага – «призраки» – как какой-нибудь религиозный или нравственный идеал, поднятие морального уровня, осуществление справедливости, защита истины, свободы, человеческого достоинства. Для таких эпох, для таких людей и гласит слово Заратустры: выше любви к людям стоит любовь к вещам и призракам!
Как бы каждый из нас ни решил для себя вопроса о сравнительной ценности «любви к людям» и «любви к призракам», во всяком случае заслугой Ницшевской «переоценки всех ценностей» является критическое углубление нашего морального сознания. Мы видели, что понятие «любви к призракам» несомненно выражает давно знакомое человечеству нравственное чувство и, следовательно, не постулирует никакого новшества в морали. Но одно дело – нравственное чувство, а другое – моральная доктрина и воспитанное ею моральное сознание. Последние всегда отстают от первого, всегда не вполне соответствуют ему и не выражают его точно и полно. Задачей этики, как нормативной дисциплины, и является установление согласия между моральными убеждениями и нравственными чувствами, пересмотр и углубление морального сознания путем сопоставления его с прирожденными или бессознательно привитыми человечеству нравственными инстинктами. Такова и заслуга Ницшевской «переоценки ценностей»: выяснение морального конфликта между любовью к ближнему и любовью к дальнему и доказательство наличности и самостоятельной моральной ценности практически давно известного, но сознательно не оцененного чувства «любви к призракам». Несомненно, что это последнее чувство оставалось в тени и не проникало к свету морального сознания только благодаря господству узкой этической доктрины утилитаризма, которая признавала единственным верховным моральным благом счастие людей, а потому и не хотела замечать и признавать в моральных чувствах ничего, кроме стремления к счастию ближних – альтруизма – и его прямого антипода – эгоизма. Вот почему и Ницше приходится развивать свои этические воззрения в прямой полемике с этикой утилитаризма, с тем «учением о счастии и добродетели», из-за которого, по его мнению, люди «измельчали и все более мельчают»[94 - В отождествлении утилитаризма с этикой альтруизма содержится, несомненно, некоторая неточность: этика альтруизма, с одной стороны, шире утилитаризма, так как любовь к людям не исчерпывается стремлением к их счастию или пользе; с другой стороны, утилитаризм шире этики альтруизма, так как служение счастию людей может быть основано не только на любви к людям, но и на других мотивах. Тем не менее нам кажется позволительным для нашей специальной задачи отождествить эти два – во всяком случае, родственных друг другу – моральных направления, объединив их по общему признаку их верховных принципов: служению интересам ближних. Этот же признак отделяет их обоих от этики «любви к призракам», верховным принципом которой служит стремление к абстрактным самодовлеющим моральным идеалам, ценность которых независима от их значения для субъективных интересов «ближних».].
Моральное сознание, приученное этикой утилитаризма и альтруизма к убеждению, что вне любви к людям и стремления к их счастию не может быть ничего морально ценного, надо думать, нелегко сдастся тому натиску на него, который содержится в учении Ницше о нравственном величии объективных, бескорыстных не только по отношению к «я», но и по отношению ко всякому «ты», человеческих побуждений, объединяемых им под названием «любви к призракам». Этому этическому идеализму утилитаризм противопоставит утверждение, что «любовь к призракам», как бы она ни казалась непохожей на альтруизм, есть тем не менее лишь косвенная форма, в которую выливается любовь к людям и стремление к их счастию. В самом деле нельзя отрицать, что очень часто человек, посвящающий свою жизнь служению абстрактным «призракам» истины, справедливости, душевной независимости и т. п., приносит огромную пользу своим согражданам и ближним и таким образом косвенно служит им и их счастию. Этим дается повод искать моральное значение чувства «любви к призракам в его близости к альтруизму и по его основным признакам, и по его объективным последствиям. Тем не менее такое заключение утилитаризма должно быть признано совершенно неверным: оно покоится на полном смешении двух совершенно разнородных вопросов дисциплины этики: проблемы моральной и проблемы логически-каузальной. Не подлежит сомнению, что генетически вся совокупность моральных чувств и принципов – следовательно, также и «любовь к призракам» – выросла из потребностей социального блага. Весьма вероятно также, что эта связь морали с социальным благом есть не только генетическая, но и функциональная, так что всякое моральное чувство и действие имеют im Grossen und Ganzen
своим объективным последствием и как бы своим природным назначением содействие социальному благу, т. е. рост человеческого счастия и благополучия. В этом смысле, т. е. в качестве теоретической социологической гипотезы, устанавливающей каузальную и функциональную связь между нравственностью и счастием, утилитаризм имеет, бесспорно, серьезное raison d’etre[95 - Выдающийся образец подобного утилитаризма дан Иерингом в его Zweck im Recht, а также Лестером Уордом в его замечательных социологических трудах. Сам Ницше не раз высказывает мысль, что всякая мораль в конечном счете является продуктом и функцией инстинкта сохранения рода.]
. И однако эта связь есть нечто совершенно постороннее и безразличное с точки зрения проблемы моральной. Не объективные последствия действий или чувства, а его субъективная цель и его внутренний мотив определяют его моральное значение. Каковы бы ни были утилитарные результаты «любви к призракам», но раз остается несомненным, что субъективным побуждением в ней служит не стремление к увеличению счастия людей, а внутренняя, так сказать, имманентная моральная привлекательность самих «призраков» – а именно этот признак и конституирует понятие «любви к призракам» в его отличии от альтруизма, – то моральная доктрина утилитаризма опровергнута. Быть может, такое противоречие между генетической и моральной точкой зрения на явления нравственности, которое может с первого взгляда показаться странным, есть само весьма необходимый и полезный продукт социального подбора и его уничтожение, на котором настаивает утилитаризм, грозило бы, вероятно, человечеству самыми опасными последствиями. Так, успехи науки, которые имели такое огромное практическое значение, могли быть достигнуты только путем бескорыстного искания истины вне всяких соображений о ее пользе для людей; а сколько народных бедствий было бы предупреждено, если бы современная «реальная политика» – этот типичнейший продукт государственного утилитаризма – сменилась политикой «идеальной», которая считалась бы не только с утилитарными интересами страны, но и хотя бы с элементарнейшими «призраками» справедливости и добропорядочности!
Таким образом, для сохранения своей позиции утилитаризм должен доказать не то, что указанные объективные, неальтруистические побуждения бывают вообще полезны человечеству, а то, что их полезность служит в каждом отдельном случае их единственным моральным оправданием, единственным основанием их моральной ценности. Подобные thema probandum
допускает, впрочем, в свою очередь один легкий, но непозволительный выход из затруднения. Возможно, именно утверждение, что объекты рассматриваемых неальтруистических чувств – «призраки» – сами по себе составляют для человека неоценимое благо (вне всякого отношения к их дальнейшей полезности), так что любовь к ним есть ео ipso
стремление к человеческому благу; «не о едином хлебе жив человек»
– и обладание «призраками» нужно ему не менее, чем обладание хлебом; утоление жажды истины и справедливости есть столь же необходимое условие человеческого счастия, как и утоление голода. Справедливость подобного утверждения самоочевидна, но только потому, что оно есть в сущности бессодержательная тавтология: понятие блага, условия счастия расширяется до пределов понятия морального добра вообще, и тогда уже нетрудно, конечно, доказать, что всякое добро есть благо. Но такое расширение понятия блага незаконно в том отношении, что оно затушевывает коренное различие между субъективной и объективной ценностью, между благом, как условием удовлетворения субъективных желаний человека, и благом, обладающим объективным моральным значением, совершенно независимым от субъективных человеческих взглядов и оценок. Установление реальной связи между явлениями добра и счастия имеет смысл только при условии резкого логического различения между добром и счастием, как понятиями, и при всякой
попытке слить эти понятия теряет всякое значение. Остается, таким образом, только чистое, прямое и недвусмысленное утверждение утилитаризма, что «любовь к призракам» ценна только постольку, поскольку она есть любовь к людям и стремление содействовать их счастию. Но именно такая ясная постановка постулата утилитаризма обнаруживает полную его несостоятельность. Так как «любовь к призракам» характеризуется, как мы видели, именно своим бескорыстием, отсутствием в нем соображений о субъективном его значении, о его пользе (так что если эта польза и налицо, то лежит за пределами морального поля зрения), то утилитаризм поставлен перед дилеммой: или категорически отрицать моральную ценность этого чувства, или столь же категорически признать свою собственную несостоятельность. И действительно, на практике утилитаризм относится враждебно ко всем идеалам, которые не могут ответить на прямой вопрос: cui prodest?
и господство утилитарных принципов значительно содействовало забвению подобных идеалов. Если утилитаризм иронически указывает на принцип «fiat justitia, pereat mundus»
, как на логический вывод из всяких объективных, самодовлеющих моральных «призраков», то не нужно забывать, что в борьбе с этим принципом он вынужден часто опереться на обратный принцип: «fiat utilitas, pereat justitia»
. А если так, то утилитаризм противоречит ясному голосу нравственного чувства и потому должен быть сам отвергнут[96 - С точки зрения общественного утилитаризма, страшною ересью должна звучать, например, следующая замечательная перифраза темы о превосходстве «любви к призракам» над «любовью к людям», содержащаяся в выстраданных словах Чаадаева: «любовь к отечеству вещь очень хорошая, но есть и нечто повыше ее: любовь к истине… Дорога на небо ведет не через любовь к отечеству, а через любовь к истине» (Апология Сумасшедшего)
. Сравните с этим изречением модный лозунг современных англичан: «right or wrong – my country!» («право или неправо отечество – оно мое отечество!») – и вам станет ясно отношение последовательно продуманного утилитаризма к «любви к призракам».].
Если стремление уподобить «любовь к призракам» альтруизму и в этой близости ее к служению
людям и их счастию искать источника ее моральной ценности должно быть признано несостоятельным, то столь же неверным было бы уподобление ее эгоизму. К сожалению, сам Ницше является инициатором такого уподобления. Обладая более художественной глубиною и прозорливостью, нежели аналитическою силою ума, Ницше, в своем протесте против утилитаризма, усматривающего в альтруизме единственное морально ценное чувство, а во всем ему противоречащем – моральное зло, ударился в противоположную крайность, сблизив «любовь к призракам» с эгоизмом. Впрочем, это сближение остается в сущности чисто словесным, терминологическим; мало-мальски вдумчивый читатель легко сообразит, что чувство, прославляемое Ницше под названием себялюбия, по своему содержанию бесконечно далеко от последнего. Послушаем одну из проповедей Заратустры к «высшим людям», в которой он заповедует им «себялюбие»:
«О творцы, о высшие люди! Можно быть беременным только своим собственным ребенком.
Не давайте себя ни в чем уговаривать, заговаривать! Кто же это ваш ближний? И если вы даже действуете «для ближнего» – творите вы все же не для него!
Отучитесь вы наконец от этого “для”, вы творцы! Ваша добродетель именно и хочет, чтобы вы ничего не делали “для” и “ради” и “потому что”. Против этих лживых маленьких слов вы должны залепить ваше ухо.
“Для ближнего” – это добродетель только маленьких людей: там говорится: “равное за равное” и “рука руку моет”: – они не имеют ни силы, ни права на ваше себялюбие.
Ваше себялюбие, о творцы, есть предусмотрительность и предвидение беременных: чего никто не видал глазами – плод, – то охраняет и бережет и питает вся ваша любовь.
Где вся ваша любовь, у вашего ребенка, там и вся ваша добродетель! Ваше дело, ваша воля – вот ваш “ближний”; не давайте себе внушать ложных оценок!»
Эта проповедь ясно показывает, как неудачно название себялюбия для описываемого здесь побуждения[97 - Да и как мог бы восхвалять настоящее себялюбие Заратустра, проповедник самоотверженной любви к дальнему, с негодованием восклицающий: «Ненавистен мне вырождающийся дух, который говорит: все для меня!»
]. Себялюбием нельзя назвать заботливость беременных о плоде, уход за будущим ребенком; и следовательно, то, что здесь приравнивается любви к плоду – любовь к делу – походит на эгоизм так же мало, как и «предусмотрительность беременных». Материнская любовь к плоду, приводимая здесь в виде примера, достойного «творцов» побуждения, есть один из тех блестящих образов, которыми гениальный художник Ницше умеет пояснить свою мысль лучше, чем то могли бы сделать десятки страниц отвлеченного анализа. В самом деле, что может быть бескорыстнее и трогательнее этой любви к плоду? А между тем она есть не альтруизм, не любовь к живущему, видимому «ближнему», а лишь любовь к чему-то созидающемуся, будущему, творимому, любовь не к человеку, а к «призраку» будущего человека. И как мать любит и бережет своего будущего ребенка, так и все «творцы», проповедует Заратустра, должны беречь и любить те призраки, которые они стремятся воплотить в жизнь; любовь к этим призракам – любовь бескорыстная, так же мало задумывающаяся о цели и пользе их для себя и других, как материнская любовь – о цели и пользе рождения ребенка, – должна быть краеугольным камнем добродетели творцов, основой их морального поведения. «Ваше дело – вот ваш ближний» – в этих словах содержится лишь повторение мысли: «выше любви к людям я ценю любовь к вещам и призракам»
. При таком значении «себялюбия» было бы также грубым заблуждением видеть в мысли о необходимости себялюбия для «высших людей» и его непозволительности для людей «маленьких» повторение знаменитой несчастной мысли Раскольникова. Благодаря полному различию в смысле понятия «себялюбия» применительно к «высшим» и «маленьким» людям, мысль Ницше сводится лишь к тому, что альтруизм должен остаться единственным моральным двигателем для тех людей, которые не способны к творчеству во имя «любви к призракам». Вместе с тем в приведенном отрывке ясно просвечивает тот мотив, который побудил Ницше сблизить «любовь к призракам» с эгоизмом: это его протест против утилитаризма, который требует для морального оправдания действия ответа на вопрос: для чего, в чью пользу оно направлено? В борьбе с этим моральным направлением Ницше выставляет требование, чтобы моральная ценность действия была независима от всяких «для» и «ради», от ее последствий для счастия ближних. И именно в этой независимости моральной ценности побуждения от его пользы для ближних Ницше усматривает родство подобных побуждений с эгоизмом. Но если повод к этому сближению «любви к призракам» с эгоизмом и понятен, то само оно, повторяем, остается несомненным заблуждением: эгоистичность действия определяется именно его корыстностью, полезностью его последствий для действующего, тогда как моральная ценность «любви к призракам», по мысли Ницше, должна быть имманентной, т. е. присущей самому чувству и вполне независимой от каких-либо его последствий.
Впрочем, в этом сближении «любви к призракам» с эгоизмом сказывается еще одна глубокая и крайне характерная для нравственного миросозерцания Ницше черта. Для выяснения ее необходимо остановиться на достаточно известном – пожалуй, слишком известном – протесте Ницше против идеи долга в морали. Протест этот в его абстрактной, теоретической форме несомненно неудачен, так как категория долга не морально, а чисто логически связана с самым понятием нравственности: нравственным мы называем именно все то, что мы переживаем и мыслим под категорией долга, в форме долженствования; поэтому все попытки удалить понятие долга из морали всегда основаны на логическом недоразумении, и если бы даже моралист учил нас отказаться от повиновения всем моральным обязанностям, то самое это отречение от обязанностей означало бы новую налагаемую на нас обязанность, формально тождественную с прежними. Моральная доктрина без категории долга, без слов «ты должен» и без повелительного наклонения есть такое же contradictio in adjecto
, как научная теория без категорий бытия и причинности, без слов «есть» и «потому что». Уничтожение категории долга есть, таким образом, отрицание не определенного содержания морали, а самой формальной идеи морали. Ницше сам сознавал это и в последнем периоде своего творчества склонялся к отрицанию всякой морали вообще; он называл даже своего Заратустру «первым имморалистом»
. Достаточно характерно, однако, то противоречие, что этот имморалист проводит всю свою жизнь в моральном поучении людей, в установлении «новых скрижалей».
Однако за этою формальною связью понятий, которая делает совершенно невозможным отрицание категории долга в морали, не нужно забывать о разнообразии и богатстве моральных переживаний, выливающихся в общую форму «долженствования». Когда человек в ряду своих побуждений находит одно, которому он приписывает абсолютное, объективное – независящее от его желаний и настроений – значение, то потребность следовать этому побуждению и дать ему победу над всеми остальными он испытывает в форме принуждения, долга, обязанности. В этом чувстве содержится психологический признак мотивов моральных. Но самый характер этой принудительности, ее сила и острота сознаются различно, в зависимости от того, насколько все остальные, субъективные побуждения противодействуют моральному мотиву или, наоборот, гармонируют с ним и ему содействуют. Хотя моральное принуждение, в отличие от принуждения права и вообще внешней власти, есть всегда принуждение внутреннее, исходившее из собственного я, – с внешней стороны свободного, однако иго принуждения более чувствительно и более ясно сознается, приближаясь по своему психологическому эффекту к принуждению внешнему, когда существует резкое разногласие между моральным, повелевающим «я» и эмпирическим подчиняющимся «я», чем когда это разногласие не так сильно и смягчается элементом гармонии. Так же различен в обоих случаях и самый психический механизм морального принуждения: к чисто моральному инстинкту, требующему победы нравственного побуждения над безнравственным, будет в первом случае присоединяться страх перед последствиями морального непослушания – будет ли то осуждение со стороны общественного мнения, или предполагаемое наказание религиозно-метафизического характера, или угрызения совести, – и потому моральное принуждение будет чувствоваться как тяжкое давление какой-то чуждой власти, тогда как во втором случае легкое, свободное и бескорыстное следование по пути, указываемому повелевающим внутренним голосом, будет оставлять радостное впечатление гармонии между действием и внутренней природой действующего. В отдаленной перспективе мерещится идеал человека, для которого нравственные побуждения настолько сольются с субъективными влечениями его природы, что он уже не будет нуждаться ни в каких предписаниях – подобно тому как сейчас люди не нуждаются в предписаниях, чтобы есть, пить и размножаться, – и не будет следовательно замечать никакого ига нравственного принуждения. Осуществим ли подобный идеал или нет, во всяком случае его моральная ценность несомненна; так же несомненно и то, что степень нравственного развития человека измеряется не только силой вложенных в него моральных импульсов, но и близостью их к его общему характеру и сравнительною легкостью, с какою им удается пролагать себе путь в его поведении. Протест Ницше против морального принуждения означает лишь настаивание на необходимости и моральном значении нравственно-цельных натур, для которых должное есть вместе с тем и желаемое. Его возмущает мораль, основанная на страхе наказания или ожидании награды, – мораль в виде чуждого внутренним наклонностям предписания грозной невидимой власти, – мораль, подчинение которой есть для человека «боль от удара кнутом»:
«Вы хотите еще вознаграждения, вы добродетельные? Вы хотите платы за добродетель и небо за землю и вечность за ваше сегодня?..
Ах, печаль моя гласит: в глубь вещей волгали награду и наказание, – а теперь еще и в глубь ваших душ, о добродетельные!..
Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но где было слыхано, чтобы мать требовала уплаты за свою любовь?..
Да будет ваша добродетель вашим я, а не чем-то чуждым, кожей, одеянием: вот истина из глубины вашей души, о добродетельные!»
С этой точки зрения, которая видит нравственную высоту в совпадении моральных побуждений с субъективными, личными мотивами, теряет свою ценность идеал «самоотречения». Самоотречение, очевидно, необходимо для того, кому нужно для исполнения моральных предписаний отрекаться от себя, от своих личных интересов и желаний; оно предполагает противоречие между моральными и личными мотивами. Ницше указывает другой путь для торжества нравственности: согласование моральных побуждений с индивидуальными потребностями, превращение первых в последние; этот путь предполагает, конечно, высшую ступень нравственного развития и для очень многих совершенно недостижим; но это именно и указывает на его большую возвышенность.
«Я хочу, чтобы вы устали говорить: “хорошим бывает поступок, когда в нем есть самоотречение”.
Ах, друзья мои! Пусть ваше я будет в поступке, как мать в ребенке: да будет это вашим словом о добродетели!»
Итак, отрицание морального принуждения и проповедь «себялюбия», как антипода морально несовершенного идеала «самоотречения», есть для Ницше только требование такого нравственного перевоспитания человечества, результатом которого явилось бы теснейшее слияние индивидуальных и моральных, субъективно и объективно ценных побуждений и отсутствие чувства тягостной принудительности морального закона. В какой же связи стоит это требование с этической системой любви к дальнему (понимаемой, как «любовь к призракам») и с тем особенным положением, которое, как мы видели, занимает «любовь к призракам» наряду с моральными чувствами эгоизма и альтруизма?
Борьба против этики альтруизма и утилитаризма, против морального направления, которое считает верховной целью деятельности счастие ближних и верховным моральным двигателем
, – любовь к людям, – эта борьба у Ницше, быть может, в значительной степени обусловлена той жестокою, властною принудительностью, тою мрачною насильственною тираниею нравственных побуждений над эгоистическими, которыми особенно ярко характеризуется моральный закон в этике альтруизма и утилитаризма. Причина этого последнего обстоятельства лежит, как нам кажется, в следующем. Фактически несомненно, что любовь к людям, как врожденное характерологическое свойство, как природный инстинкт, развито в людях чрезвычайно мало. Круг действия этого чувства для человека в подавляющем большинстве случаев ограничен и по самому существу дела должен быть ограничен сравнительно небольшим числом людей, связанных между собой узами любви, дружбы и родства. Не берясь обосновывать это утверждение эмпирически или теоретически, мы констатируем указанное явление, просто как всем знакомый факт; как на авторитетнейшего свидетеля его, мы можем сослаться на величайшего психолога – Льва Толстого. В одном из лучших и известнейших своих произведений последнего периода Толстой с обычною ему ясностью доказывает, что любить человечество в настоящем, буквальном смысле понятия любви, любить так, как мать любит свое дитя, или как супруги, братья, друзья любят друг друга, совершенно невозможно. Любить людей вообще, только потому, что они – люди, это значит лишь вести себя по отношению к ним так, как мы ведем себя по отношению к близким и действительно любимым существам. И такое поведение может быть основано не на инстинкте любви, а лишь на требовании морального закона, повелевающего нам видеть во всех людях своих братьев. Великий мыслитель и моралист делает отсюда вывод, что любовь к людям требует для своей наличности и крепости опоры в ином чувстве – в религиозно-метафизической санкции, в присущей людям любви к Существу, олицетворяющему нравственный закон[98 - Любопытно, что здесь, хотя и с иным оттенком, чем у Ницше, высказывается та же идея: выше любви к людям стоит любовь к призракам. Именно эта идея заставляет Толстого требовать смены, как он выражается, «общественного миросозерцания» миросозерцанием метафизически-моральным
. Ср. почти дословно тождественную с этим мнением Толстого мысль Ницше в «Jenseits von Gut und B?se», отрывок 60
. В нравственных натурах этих двух величайших моралистов XIX века есть вообще много сходного, несмотря на полное различие в содержании их учений.]. Не затрагивая этого вывода, мы ссылаемся здесь лишь на его посылку. Моральное предписание любви к людям, в силу того, что это чувство в его отвлеченной форме любви к человечеству или ко всем людям без изъятия имеет мало почвы во врожденных инстинктах людей, необходимо выливается в проповедь жестокой, непримиримой борьбы с эгоизмом. Вот почему этика альтруизма полна представлений о природной греховности людей, о вечной борьбе между плотью и духом, вот почему ей почти недоступна мысль о гармоническом сочетании субъективно-индивидуальных и объективно-моральных побуждений и о возможности легкого, радостного и свободного следования по пути, указываемому нравственным законом; вот почему этика альтруизма есть, так сказать, мораль долга по преимуществу, мораль, осуществляемая и осуществимая только тираническим подавлением бунтующей природы человека, мораль аскетизма и самоотречения. Говоря словами Ницше, мораль альтруизма есть всегда проповедь уничтожения я в угоду ты.
Несколько иначе, по-видимому, обстоит дело с тем моральным чувством, которое мы, по примеру Ницше, рассматривали под именем «любви к призракам». В обычных, ходячих кодексах морали мы редко найдем ясные указания на него и суровые проповеди послушания ему. И это потому, что «любовь к призракам» живет в душе человека гораздо более как инстинктивная потребность, чем как моральное предписание. Если различают право писаное и неписаное, то в морали, как мы уже указывали, нужно различать мораль формулированную и мораль неформулированную, моральную доктрину и нравственное чувство. «Любовь к призракам» почти всецело принадлежит к последней категории. Благодаря этому, она оказывается в массе случаев чувством, глубже заложенным, более инстинктивным и сильным, чем альтруизм. Эмпирически можно, думается нам, считать установленным, что человек, способный непроизвольно – не в силу повиновения моральному предписанию, а в силу своей инстинктивной потребности – любить всех людей без изъятия, болеть всеми страданиями совершенно чуждых ему людей и радоваться всем их радостям, есть явление совершенно исключительное и, во всяком случае, встречается гораздо реже, чем человек, способный отзываться на абстрактные «призраки» – умеющий негодовать на несправедливость, ложь, унижение, насилие и добиваться удовлетворения инстинкта справедливости, истины, человеческого достоинства, свободы, нисколько не считаясь с вопросом: cui prodest
, не задумываясь о том, чью судьбу облегчат его нравственные запросы.
При такой (относительной, конечно) стихийности и непосредственности инстинкта «любви к призракам» сближение его с эгоизмом, которое мы видели у Ницше, имеет глубокое психологическое основание: оба чувства сходятся именно в своей близости к человеческому «я», к природным, как бы физиологическим влечениям человеческой натуры. Любовь к кафру или готтентоту, любовь к моему врагу или антипатичному мне человеку, наконец любовь просто к первому встречному я не могу испытывать иначе, как искусственно тренируя себя, т. е. подавляя свои естественные эгоистические побуждения. Наоборот, стремление сохранить справедливость или правдивость по отношению к тому же человеку, т. е. любовь к известным моральным «призракам», заговорившую во мне по поводу моих отношений к людям, я могу испытывать как непосредственное, инстинктивное мое побуждение. Нарушение истины или справедливости будет испытываться мной почти как вред, нанесенный мне самому, моему спокойствию и счастию. Аналогия с альтруистическими мотивами, поскольку последние также обладают такой непосредственностью, быть может, лучше пояснит нашу мысль. Самая бескорыстная и самоотверженная любовь к ребенку ощущается матерью почти как эгоистическое чувство: личность ребенка сливается для нее с ее собственной личностью, счастие и польза ребенка становятся ее собственными счастием и пользой. Мать, как говорит Ницше, не требует награды за свою любовь; она испытывает ее не как лишение, а как радость, как свою эгоистическую потребность. Но круг, на который могут распространяться альтруистические побуждения подобного характера, крайне узок; наоборот, нет предела той сфере отношений, которую может охватывать «любовь к призракам», способная по своей силе и непосредственности сравняться с материнскою любовью к ребенку. Поэтому-то инстинкт «любви к призракам» способен по своему психологическому эффекту походить на эгоизм, хотя теоретически – мы еще раз подчеркиваем это – между ними лежит моральная пропасть, отделяющая побуждения, имеющие лишь субъективную цену, от побуждений, обладающих объективной моральной ценностью. Моральный закон, предписывающий заботиться о благе ближнего, будет по большей части ощущаться как повеление пожертвовать интересами моего «я» в угоду интересов какого-либо «ты»; моральный же закон, повелевающий любить и защищать известные «призраки», будет сознаваться как требование заботиться о лучших, важнейших и святейших интересах моего собственного «я». У Ницше есть одно чудесное изречение, касающееся личных отношений между людьми и объясняющее это различие между любовью к людям и «любовью к призракам». «Если друг твой обидит тебя, – говорит он, – то скажи ему: то, в чем ты преступил против меня, я тебе охотно прощаю; но в чем ты преступил против самого себя, как я могу простить тебе это?»
В обиде, нанесенной ближнему, нарушаются таким образом не только интересы этого ближнего, но и интересы самого обидчика, поскольку в его поступке содержится умаление его собственного лучшего достояния – «призрака» справедливости, благородства или великодушия. Таков смысл Ницшевского сближения «любви к призракам» с эгоизмом.
Это совпадение в чувстве «любви к призракам» субъективно-индивидуальных побуждений с объективно-моральными создает особую категорию моральных явлений, быть может, высший продукт нравственного развития, – именно понятие морального права. Понятие морального права не тождественно с ходячим понятием нравственного права. Под последним подразумевается просто известный субъективный интерес, преследование которого разрешается нормами морали. Так, мы говорим, что человек после труда имеет право на отдых, или что каждый имеет право рассчитывать на помощь близких людей, или что честный человек имеет право на всеобщее уважение и т. п. Во всех этих случаях нравственное право лица, подобно юридическому праву в субъективном смысле, есть лишь продукт или отражение соответствующей обязанности всех остальных людей. Моральный закон предписывает уважать честность, помогать близким людям, обеспечивать отдых трудящемуся и т. д., и это предписание создает соответствующее право у лица, в пользу которого оно создано. Под моральным же правом мы понимаем субъективный интерес, защита которого субъектом его не только разрешается, но и положительно предписывается моральным законом, в силу той объективной моральной ценности, которая присуща этому интересу. Обязанность осуществления этого права лежит, таким образом, не только на окружающих лицах, но и на самом заинтересованном и управомоченном лице, так что его моральное право совпадает с его моральной обязанностью. Для объяснения этого понятия возьмем опять примером альтруистическое чувство в той его форме, в которой оно является и субъективным, и моральным побуждением. Если мать в силу внешних условий лишена возможности проявлять активно свою любовь к ребенку (напр[имер], если ребенок насильственно отнят у нее), то притязание ее на устранение препятствий к осуществлению ее любви будет не только морально допустимым, но и морально обязательным, так что всякая мать, не настаивающая на таком требовании, должна подвергнуться моральному осуждению. Ее право на осуществление ее любви к ребенку есть одновременно и ее обязанность, т. е. оно есть морально предписанное ей право, или, согласно нашему обозначению, ее моральное право. Но материнская любовь, повторяем, по своей стихийности и инстинктивности представляет собою исключение из типа морального чувства любви к людям. Этика утилитаризма и альтруизма, как мы видели, характеризуется именно резким противоречием между личными побуждениями и моральными обязанностями; поэтому ей, как общее правило, почти незнакомо понятие морального права. Всякое «я хочу» и «я требую для себя» есть с точки зрения этой этики, либо греховный помысел, который необходимо обуздать сознанием соответствующей моральной обязанности: «я не должен хотеть и требовать для себя», либо же нравственно-безразличное побуждение, которое не относится к морали, а есть дело вкуса и практической пользы. Только та этика, которая опирается на гармонию между эгоистическими и моральными мотивами, может выработать формулу морального права: «я хочу и требую для себя и обязан требовать». После всего вышесказанного нет надобности доказывать, что именно моральное чувство «любви к призракам», в силу его близости с субъективными интересами, будет чаще всего давать повод к возникновению моральных прав; понятие морального права стоит в самом центре этической системы «любви к дальнему» (в смысле «любви к призракам»). Если моральный закон налагает обязанность любить и защищать известные «призраки» – истину, справедливость, человеческое достоинство, независимость, – то при наличности самостоятельного, внеморального стремления к ним он создает и моральное право на них. Таким образом самый моральный закон предписывает защищать известные права – право на господство истины и справедливости в человеческих отношениях, на сохранение человеческого достоинства, на духовную свободу человека и т. п. Именно такое стремление защищать моральные права личности Ницше подразумевает под восхваляемым им «здоровым, жизненным святым себялюбием»
:
«И случилось – и поистине, случилось впервые – что слово Заратустры назвало блаженным себялюбие, то здоровое, жизненное себялюбие, которое вытекает из могучей души…
Своими словами добра и зла окружает себя такое себялюбие, как священными рощами; именем своего счастия гонит оно от себя все достойное презрения.