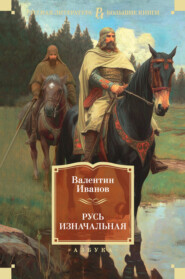По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести древних лет. Хроники IX века в четырех книгах, одиннадцати частях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чтобы не видеть того, что делается на Земле, чтобы не слышать страшного запаха погребального костра ярла Гольдульфа, еще выше поднялись в небе стаи безгрешной доброй птицы.
Огонь допылал, костер рассыпался пеплом, смешался прах человека и дерева. Нурманны дружно взялись за работу и набросали высокий, крутой холм. В нем навечно, до конца мира, должен сохраняться пепел сожженных тел.
День пошел на вторую половину, небо опустело от птиц. В воздухе на легких паутинках плыли по своим невидимым дорожкам легонькие маленькие паучки. Нурманны двинулись в обратный путь. Они шли вразброд и глядели на Город.
Хороший город… У самих нурманнов, у свеев, у датчан, фризонов, валландцев, саксов, бриттов и англов нет таких городов. Между собой нурманны называют русскую страну богатой Гардарикой, страной городов.
Через этот Город идет торговая дорога к Грекам. Тот, кто завладеет им, будет господином дороги.
Хольмгард разрастается как лес. Ему мало одного берега реки, он и другой начал захватывать своими улицами. Он владеет хорошими землями. Из его земель год от году все больше идет драгоценных мехов. А простого товара – беличьих шкурок, овечьих, бычачьих и звериных кож, птичьего пуха, сала, меда, воска – не счесть…
Нурманны думают о богатстве Города, об отличных мастерах, которые все умеют, которые во всем сильны: в кузнечных, литейных, ткацких, деревянных, костяных, гончарных и во всех прочих делах.
Нурманны смотрят на широкое, бескрайное озеро-море, на многоводную реку, на возделанные поля, на стада скота. Внимательно разглядывают городской тын. Сильный Город.
Нурманны неудержимо тянутся к богатым местам и смотрят на них взором господина и грабителя разом.
Глава пятая
1
Одинец уже третий день сидел на лесной поляне под двумя сросшимися соснами. Не хуже, чем цепь прикованного к столбу дворового медведя, держала парня рана в бедре. Он не мог ступить на ногу. Бедро раздулось, и там, где застряло железо от нурманнской стрелы, поднялась шишка величиной с кулак.
Он не был голоден. Ему удалось сбить еще одного борового петуха – глухаря, но он и первого не доел. Одинцу было трудно и больно шевелиться, но все же он ходил на край поляны и добыл в песке хороший огненный камень – кремень. С березы он содрал бересты, а с липы – луба, сплел туески и замочил в воде. Вот и ведерки. В них можно было бы и пищу сварить, но Одинец испек своих глухарей в золе, а в туесках припас под рукой воды. Его мучила жажда.
В Новгороде разные болезни и раны врачевали колдуны – арбуи. Они знали наговорные слова, а на шеи больным навешивали в ладанках-наузах тайные травы и косточки. Кроме арбуев, людям помогали знахари. Эти умели складывать сломанные кости в щепу и лубки, чтобы они срастались. Открытые раны знахари промывали настоями хороших трав и заливали чистым топленым жиром. Знахари не арбуи, они своего умельства не держали в тайне. И Одинец знал, что ему следует ждать, пока нарыв созреет.
Последнюю ночь рана не дала спать. Он истомился, пожелтел, ослабел. Зато шишка вздулась острием и на ощупь сделалась мягче.
Парень наточил нож об огниво, направил на поле кожаного кафтана. Попробовал ногтем – остер.
Он уселся поудобнее, нацелился и разрезал нарыв вдоль. Разрезал – и белого света не взвидел. В глазах стало темно, и, не будь за спиной сосны, он повалился бы навзничь.
Опомнившись, он обеими руками надавил шишку, и из раны еще сильнее хлынуло. Боль стала еще злее. Он стиснул зубы. Не чувствуя, как по лбу течет пот, он залез пальцами в рану, достал до железа, впился ногтями и потянул.
Точно живую кость сам из себя тащил. От боли и от злости завыл, но тащил:
– Врешь! Я тебя дойду!
И железо – в руке. Сразу сделалось легко и боли почти нет. Промыл рану холодной водой. Как хорошо…
Ему так захотелось есть, будто бы он век ничего не ел. Доел остатки первого глухаря, прикончил второго. Сгрыз все кости, запивая водой из туеска.
Насытившись, подумал, не сходить ли еще за водой? Нет, лучше посидеть. Забирала усталость, сладкая и мягкая, как гагачья перина. Боли и тяготы в теле как не бывало.
Он рассматривал наконечник нурманнской стрелы. Такой же, как обычно… А тут что?! Одинец потер железо о землю. На трубочке ясно обозначился кружочек. Так это же собственная Одинца мета! Он сам ковал на продажу такие наконечники у Изяслава. Мета – буквица О, первая – имени молодого кузнеца.
И смешно и досадно Одинцу. Твоим добром тебе и челом! Чтоб пусто было нурманну! Он нарочно не закрепил наконечник. Одинец бросил железо, которое так чудно к нему вернулось, сполз пониже, вытянулся, закрыл глаза, и перед ним хлынули, как с расшитого полотенца, маленькие-маленькие человечки, смешались, закрутились и разбежались перед Изяславовыми воротами на Щитной улице. А он будто входит во двор, и Заренка перед ним:
«Где был, непутевый? Где шатался?» – так и жжет его в самое сердце огневыми глазами.
2
Когда Одинец очнулся, то не сразу понял, сколько времени спал – час, день или неделю. И не тотчас вспомнил, как попал в лес и почему.
Вдруг шилом кольнуло в сердце. Он встал. Нога чуть болит и не мешает. Другая боль пришла, настоящая.
Он не думал о том, что наступает зима, и что не может человек лечь до весны в берлогу за медвежью спину и сосать лапу, и что нельзя по-волчьему спать в снегу, свернувшись кольцом. Пусть голыми руками или одним ножом не свалишь дерева, не наколешь дров и не выроешь себе землянку, – Одинец не боялся леса. Но он привык жить на людях. Волк и тот один не живет. Волк летом вместе с волчицей пестует малых волчат, а зимой прибивается к стае…
Одинец исхудал, будто постарел. Четырех дней не прошло, а уже его не сразу признал бы малознакомый человек. Строго судя сам себя, Одинец задумался над тем, что мальчишеской, никчемной горячностью по-глупому лишил жизни заморского гостя и навлек на себя напрасную беду. И придется ли теперь вновь увидеть Город, Заренку, товарищей и родной двор доброго Изяслава? Эх, худо, худо…
Стосковавшись по человеческому голосу, Одинец крикнул, чтобы хоть себя услыхать. По лесу пошел гул и назад вернулся. Еще сильнее заныло сердце.
Что же делать, приходится и с этой болью бороться. И жить нужно, и искать пристанища. И оружие нужно, одного ножа мало. Одинец срезал прямую березку, очистил, подтесал, подровнял и заострил верхний конец. Обжег острие на огне и зачистил – копье. Настоящая рогатина имеет кованую насадку в три четверти и крепкий крест-перекладину, а по бедности и такая годится.
Одинец знал, что в этих лесах много медведей. Осенью самая дурная пора для встречи с медведем. Летом он добрый; если его не задирать, и он не трогает человека. А сейчас одни уже залегают, а другие еще бродят и пашут землю когтями, как сохой, ищут корень сон-травы. У этой травы липкий стебель, и ее зовут лепок.
Когда медведь нализался корня, от него не жди добра. Он ищет берлогу и думает о встречном человеке, что тот за ним подсматривает. А другой медведь поторопится лечь – ан в берлогу зашла осенняя вода. Промочит мех, холодит кожу. Медведь в полусне кряхтит, ворчит, бранится, не хочет вставать. Ведь и человек, которому не дали спать, со сна и обругает, и ударит. А с медведя какой спрос? Ломит по лесу и одного ищет: с кем бы подраться, на ком сорвать злость. Иной злыдень-изъедуха бросается на птиц, гоняется за белками.
Одинец выбрал высокую сосну, разулся и полез вверх, пока ствол не сделался гибким. Огляделся – глубоко же он, однако, забрел в леса!
Его поляна пришлась на высокой, сухой релке. Одинец разглядел Город, который лежал на краю темной полосой, и за ним будто бы светился Ильмень. На сивере все закрывали леса. Где-то за ними пряталось озеро Нево. На полудень лесной кряж обрывался пахотными землями, а на восход стоял лес и лес. Туда идти, дальше от Города. Там должны сидеть большие и малые огнищане, на чищенных палом полях. Но нигде не видно дыма над лесами.
Шумит бор, и качается под Одинцом сосна… Он прижимал к груди гибкую вершину и качался вместе с ней. Пора решать. На восходе нужно искать место. Вблизи от поляны на восход видно болото, за ним опять лес. И там будто бы точится слабый дымок.
3
Тоскливо, грустно осенью на болотах. Чахлые березки сронили последний лист, стоят голые и корявые, будто бы кто нарочно их гнул и корчил. Нет листвы, и виден сизый мох и бурый лишай, которые так густо закрыли стволы, что не рассмотришь бересты. Как девки-перестарки, они ежатся и заживо трухлявеют.
Есть и сосенки, сдуру забравшиеся на болото. Они под пару березкам, такие же слепые и ветхие. На них, на живых, мрут-отсыхают вершинки, и они, седухи, стоят безголовыми чурками.
Одинец попробовал ногой – зыбун. Кто провалится, тот достанется водяному. Водяной ухватит и утащит в черную жижу. Парень не боялся водяного. И водяной, и леший тому страшны, кто сам сробеет, у кого нет ухватки.
Можно любое болото одолеть на переносных кладях. Одинец нарезал жердей и пошел от деревца к деревцу. Он бросал жерди на слабые места, переходил по ним и опять бросал перед собой. Работа нудная, но нужная.
На болоте растет острая осока и длинный белоус. Тростник и редест стоят чащами. На окнах воды лежат круглые листья кувшинки-болотницы. На твердых местах торчат острые листья ночной прелестницы. Летом ее белый с прозеленью цвет томно и сладко пахнет по ночам. Заренка любила зарыться лицом в душистую охапку.
На лужах отдыхало много поздней пролетной птицы – кряквы и серой утки, широконосок, свистунов, шилохвости. Проносились стаи чирят. С унылым криком вспархивали кулики.
Что им до человека, который полз по болоту. Издавна зная меру полета стрелы из охотничьего лука, птицы спокойно давали Одинцу дорогу.
На мхах встречались ягоды. Будто бы кто шел и рассыпал полный туес. Нет, возьми и заметишь, что каждая ягодка держится на живой жилочке тоненькой. Ленивая ягода клюква: спеет лежа, с одного бока красна, с другого – бела. Эх, поел бы Одинец пирога с клюквой, запил бы клюквенным квасом!..
Не временем, а отлучкой из дому долги годы. Пешему легко, когда сердце свободно, а от беды и на коне трудно ехать. Одинец тешил себя мыслью, что сросся череп нурманна. Нет, не сросся. Как бы Изяславу весть подать?
А если поймают, если за виру продадут в рабы? Нет, не дамся живой.
Тут нашлась тропка. Такие следы пробивают бабы с ребятами, когда ходят по болотам за клюквой. Одинец отбросил надоевшие жерди. Тропка вышла на твердое место.
Огонь допылал, костер рассыпался пеплом, смешался прах человека и дерева. Нурманны дружно взялись за работу и набросали высокий, крутой холм. В нем навечно, до конца мира, должен сохраняться пепел сожженных тел.
День пошел на вторую половину, небо опустело от птиц. В воздухе на легких паутинках плыли по своим невидимым дорожкам легонькие маленькие паучки. Нурманны двинулись в обратный путь. Они шли вразброд и глядели на Город.
Хороший город… У самих нурманнов, у свеев, у датчан, фризонов, валландцев, саксов, бриттов и англов нет таких городов. Между собой нурманны называют русскую страну богатой Гардарикой, страной городов.
Через этот Город идет торговая дорога к Грекам. Тот, кто завладеет им, будет господином дороги.
Хольмгард разрастается как лес. Ему мало одного берега реки, он и другой начал захватывать своими улицами. Он владеет хорошими землями. Из его земель год от году все больше идет драгоценных мехов. А простого товара – беличьих шкурок, овечьих, бычачьих и звериных кож, птичьего пуха, сала, меда, воска – не счесть…
Нурманны думают о богатстве Города, об отличных мастерах, которые все умеют, которые во всем сильны: в кузнечных, литейных, ткацких, деревянных, костяных, гончарных и во всех прочих делах.
Нурманны смотрят на широкое, бескрайное озеро-море, на многоводную реку, на возделанные поля, на стада скота. Внимательно разглядывают городской тын. Сильный Город.
Нурманны неудержимо тянутся к богатым местам и смотрят на них взором господина и грабителя разом.
Глава пятая
1
Одинец уже третий день сидел на лесной поляне под двумя сросшимися соснами. Не хуже, чем цепь прикованного к столбу дворового медведя, держала парня рана в бедре. Он не мог ступить на ногу. Бедро раздулось, и там, где застряло железо от нурманнской стрелы, поднялась шишка величиной с кулак.
Он не был голоден. Ему удалось сбить еще одного борового петуха – глухаря, но он и первого не доел. Одинцу было трудно и больно шевелиться, но все же он ходил на край поляны и добыл в песке хороший огненный камень – кремень. С березы он содрал бересты, а с липы – луба, сплел туески и замочил в воде. Вот и ведерки. В них можно было бы и пищу сварить, но Одинец испек своих глухарей в золе, а в туесках припас под рукой воды. Его мучила жажда.
В Новгороде разные болезни и раны врачевали колдуны – арбуи. Они знали наговорные слова, а на шеи больным навешивали в ладанках-наузах тайные травы и косточки. Кроме арбуев, людям помогали знахари. Эти умели складывать сломанные кости в щепу и лубки, чтобы они срастались. Открытые раны знахари промывали настоями хороших трав и заливали чистым топленым жиром. Знахари не арбуи, они своего умельства не держали в тайне. И Одинец знал, что ему следует ждать, пока нарыв созреет.
Последнюю ночь рана не дала спать. Он истомился, пожелтел, ослабел. Зато шишка вздулась острием и на ощупь сделалась мягче.
Парень наточил нож об огниво, направил на поле кожаного кафтана. Попробовал ногтем – остер.
Он уселся поудобнее, нацелился и разрезал нарыв вдоль. Разрезал – и белого света не взвидел. В глазах стало темно, и, не будь за спиной сосны, он повалился бы навзничь.
Опомнившись, он обеими руками надавил шишку, и из раны еще сильнее хлынуло. Боль стала еще злее. Он стиснул зубы. Не чувствуя, как по лбу течет пот, он залез пальцами в рану, достал до железа, впился ногтями и потянул.
Точно живую кость сам из себя тащил. От боли и от злости завыл, но тащил:
– Врешь! Я тебя дойду!
И железо – в руке. Сразу сделалось легко и боли почти нет. Промыл рану холодной водой. Как хорошо…
Ему так захотелось есть, будто бы он век ничего не ел. Доел остатки первого глухаря, прикончил второго. Сгрыз все кости, запивая водой из туеска.
Насытившись, подумал, не сходить ли еще за водой? Нет, лучше посидеть. Забирала усталость, сладкая и мягкая, как гагачья перина. Боли и тяготы в теле как не бывало.
Он рассматривал наконечник нурманнской стрелы. Такой же, как обычно… А тут что?! Одинец потер железо о землю. На трубочке ясно обозначился кружочек. Так это же собственная Одинца мета! Он сам ковал на продажу такие наконечники у Изяслава. Мета – буквица О, первая – имени молодого кузнеца.
И смешно и досадно Одинцу. Твоим добром тебе и челом! Чтоб пусто было нурманну! Он нарочно не закрепил наконечник. Одинец бросил железо, которое так чудно к нему вернулось, сполз пониже, вытянулся, закрыл глаза, и перед ним хлынули, как с расшитого полотенца, маленькие-маленькие человечки, смешались, закрутились и разбежались перед Изяславовыми воротами на Щитной улице. А он будто входит во двор, и Заренка перед ним:
«Где был, непутевый? Где шатался?» – так и жжет его в самое сердце огневыми глазами.
2
Когда Одинец очнулся, то не сразу понял, сколько времени спал – час, день или неделю. И не тотчас вспомнил, как попал в лес и почему.
Вдруг шилом кольнуло в сердце. Он встал. Нога чуть болит и не мешает. Другая боль пришла, настоящая.
Он не думал о том, что наступает зима, и что не может человек лечь до весны в берлогу за медвежью спину и сосать лапу, и что нельзя по-волчьему спать в снегу, свернувшись кольцом. Пусть голыми руками или одним ножом не свалишь дерева, не наколешь дров и не выроешь себе землянку, – Одинец не боялся леса. Но он привык жить на людях. Волк и тот один не живет. Волк летом вместе с волчицей пестует малых волчат, а зимой прибивается к стае…
Одинец исхудал, будто постарел. Четырех дней не прошло, а уже его не сразу признал бы малознакомый человек. Строго судя сам себя, Одинец задумался над тем, что мальчишеской, никчемной горячностью по-глупому лишил жизни заморского гостя и навлек на себя напрасную беду. И придется ли теперь вновь увидеть Город, Заренку, товарищей и родной двор доброго Изяслава? Эх, худо, худо…
Стосковавшись по человеческому голосу, Одинец крикнул, чтобы хоть себя услыхать. По лесу пошел гул и назад вернулся. Еще сильнее заныло сердце.
Что же делать, приходится и с этой болью бороться. И жить нужно, и искать пристанища. И оружие нужно, одного ножа мало. Одинец срезал прямую березку, очистил, подтесал, подровнял и заострил верхний конец. Обжег острие на огне и зачистил – копье. Настоящая рогатина имеет кованую насадку в три четверти и крепкий крест-перекладину, а по бедности и такая годится.
Одинец знал, что в этих лесах много медведей. Осенью самая дурная пора для встречи с медведем. Летом он добрый; если его не задирать, и он не трогает человека. А сейчас одни уже залегают, а другие еще бродят и пашут землю когтями, как сохой, ищут корень сон-травы. У этой травы липкий стебель, и ее зовут лепок.
Когда медведь нализался корня, от него не жди добра. Он ищет берлогу и думает о встречном человеке, что тот за ним подсматривает. А другой медведь поторопится лечь – ан в берлогу зашла осенняя вода. Промочит мех, холодит кожу. Медведь в полусне кряхтит, ворчит, бранится, не хочет вставать. Ведь и человек, которому не дали спать, со сна и обругает, и ударит. А с медведя какой спрос? Ломит по лесу и одного ищет: с кем бы подраться, на ком сорвать злость. Иной злыдень-изъедуха бросается на птиц, гоняется за белками.
Одинец выбрал высокую сосну, разулся и полез вверх, пока ствол не сделался гибким. Огляделся – глубоко же он, однако, забрел в леса!
Его поляна пришлась на высокой, сухой релке. Одинец разглядел Город, который лежал на краю темной полосой, и за ним будто бы светился Ильмень. На сивере все закрывали леса. Где-то за ними пряталось озеро Нево. На полудень лесной кряж обрывался пахотными землями, а на восход стоял лес и лес. Туда идти, дальше от Города. Там должны сидеть большие и малые огнищане, на чищенных палом полях. Но нигде не видно дыма над лесами.
Шумит бор, и качается под Одинцом сосна… Он прижимал к груди гибкую вершину и качался вместе с ней. Пора решать. На восходе нужно искать место. Вблизи от поляны на восход видно болото, за ним опять лес. И там будто бы точится слабый дымок.
3
Тоскливо, грустно осенью на болотах. Чахлые березки сронили последний лист, стоят голые и корявые, будто бы кто нарочно их гнул и корчил. Нет листвы, и виден сизый мох и бурый лишай, которые так густо закрыли стволы, что не рассмотришь бересты. Как девки-перестарки, они ежатся и заживо трухлявеют.
Есть и сосенки, сдуру забравшиеся на болото. Они под пару березкам, такие же слепые и ветхие. На них, на живых, мрут-отсыхают вершинки, и они, седухи, стоят безголовыми чурками.
Одинец попробовал ногой – зыбун. Кто провалится, тот достанется водяному. Водяной ухватит и утащит в черную жижу. Парень не боялся водяного. И водяной, и леший тому страшны, кто сам сробеет, у кого нет ухватки.
Можно любое болото одолеть на переносных кладях. Одинец нарезал жердей и пошел от деревца к деревцу. Он бросал жерди на слабые места, переходил по ним и опять бросал перед собой. Работа нудная, но нужная.
На болоте растет острая осока и длинный белоус. Тростник и редест стоят чащами. На окнах воды лежат круглые листья кувшинки-болотницы. На твердых местах торчат острые листья ночной прелестницы. Летом ее белый с прозеленью цвет томно и сладко пахнет по ночам. Заренка любила зарыться лицом в душистую охапку.
На лужах отдыхало много поздней пролетной птицы – кряквы и серой утки, широконосок, свистунов, шилохвости. Проносились стаи чирят. С унылым криком вспархивали кулики.
Что им до человека, который полз по болоту. Издавна зная меру полета стрелы из охотничьего лука, птицы спокойно давали Одинцу дорогу.
На мхах встречались ягоды. Будто бы кто шел и рассыпал полный туес. Нет, возьми и заметишь, что каждая ягодка держится на живой жилочке тоненькой. Ленивая ягода клюква: спеет лежа, с одного бока красна, с другого – бела. Эх, поел бы Одинец пирога с клюквой, запил бы клюквенным квасом!..
Не временем, а отлучкой из дому долги годы. Пешему легко, когда сердце свободно, а от беды и на коне трудно ехать. Одинец тешил себя мыслью, что сросся череп нурманна. Нет, не сросся. Как бы Изяславу весть подать?
А если поймают, если за виру продадут в рабы? Нет, не дамся живой.
Тут нашлась тропка. Такие следы пробивают бабы с ребятами, когда ходят по болотам за клюквой. Одинец отбросил надоевшие жерди. Тропка вышла на твердое место.